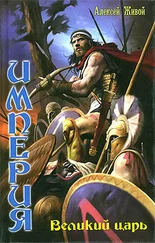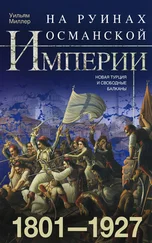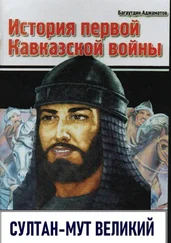Сельджукские писцы монгольского периода должны были использовать стилистические модели административной фразеологии из собраний документов, оставшихся от их выдающихся предшественников. Именно благодаря таким собраниям до нас дошли документы, некоторые из которых относятся даже к домонгольскому периоду. Но мы не можем быть уверены, что во времена независимого султаната не формировались аналогичные собрания, как это делалось у других Сельджукидов или их хорезмийских наследников.
Во времена монгольского владычества число сотрудников административных инстанций резко возрастает. Но был ли этот рост вызван тем, что их обязанности стали более обременительными, или он ничем не обоснован? В любом случае эхо от этого разрастания отразилось в жалобах на него, и, если верить жалобщикам, оно привело к росту числа сотрудников в четыре раза по сравнению со временем великого Кей-Кубада, когда на месте 24 старших чиновников было только 6.
Как и в соседних ирано-мусульманских государствах, наряду с обычным правосудием, которое осуществляли кадии, присутствовавшие в «Руме» повсеместно, имелся подчинявшийся султану amir-dad – глава юстиции, занимавшийся делами под названием mazalim – случаями репрессий, административного произвола и т. д.
Известно, что в 612 (1215) году эту должность занимал Синан ад-Дин Тогрул. (Около 618 (1221) года имеется упоминание об этой должности, но ее носитель не назван.)
Ранее было отмечено, что большую часть должностей при дворе занимали военные или такие из уже перечисленных высших чиновников, как атабек и наиб (но не перване). Их число пополняли военачальники из провинций, о которых мы поговорим позже, и беклербеки.
Дать сколь-нибудь точное определение тому, кого называли «беклербеком», достаточно сложно. Возможно, он идентичен тому, кого в художественных греческих текстах XII века называли «архисатрап», а в других местах ispahsalar, amir kabir и т. д. В XIII веке это слово было эквивалентно арабскому amir (но чаще malik)-al umara – «эмир эмиров». Оба этих титула встречаются в текстах произвольно, иногда даже в одном и том же тексте. Нет ни одного случая, чтобы в один и тот же период времени упоминалось больше одного беклербека. Даже в монгольский период, для которого распределение должностей описано достаточно детально, беклербек всегда фигурирует в единственном числе. Однако в период независимости мы иногда сталкиваемся с двумя именами носителей этой должности, называемыми так, словно они были современниками. Но поскольку один из них был главой большой турецкой провинции Кастамону, мы склонны считать, что он обладал соответствующими этой должности полномочиями только в этих границах. Кроме того, можно предположить, что особой обязанностью беклербека был контроль за туркменами, чьи вожди назывались беками, но, похоже, никаких подтверждений этой гипотезы нет. Кстати, одним из беклербеков был Комнин, которого трудно представить в этой должности, если только он не был полностью ассимилирован. Очевидно, что обязанности беклербека лежали в основном в военной сфере, но это не означает, что он был каким-то особенным военачальником по сравнению с другими. Например, если подчиненные ему войска оказывались в такой ситуации, что не могли получать команды непосредственно от него, его вполне мог заменить, например, атабек.
Список беклербеков
Хусам ад-Дин Чупан, занимал эту должность в то же время, что и Сейф ад-Дин амир Кызыл в 1211 году (если только он назван не с опережением). Сейф ад-Дин Ине и Баха ад-Дин Кутлугшах – одновременно или друг за другом в 617 (1220) году.
Во время крымского похода тот же Хусам ад-Дин Чупан.
Алтынбек, позже атабек.
Арслан ибн Каймаз, при котором в должности наиба состоял Низир ад-Дин Turjman – переводчик, который, впрочем, упоминается вскользь незадолго перед тем, как наибом стал Захир ад-Дин Мансур ибн Кафи.
Такое впечатление, что об обычном судействе в «Руме» нельзя сказать ничего особенного. Как было показано ранее, благодаря Сулейману ибн Кутлумушу кадий появился там в то же время, что и мусульманская община. Но мы мало что можем сказать о реальном функционировании этого института в «Руме», и в любом случае нет оснований предполагать, что он обладал какими-то особыми характеристиками. Во всех исламских странах кадий, хотя и назначался государством, был фигурой, стоящей вне государственной структуры в том смысле, что он применял закон, который не зависел от государства, а средства, которыми он пользовался, отчасти имели своим источником религию, и государство в принципе не имело над ними власти. Сохранившиеся записи о благотворительных взносах – вакуфах – показывают, что кадии играли такую же роль, как и везде, – роль гаранта и надзирателя за этими вакуфами. Свой кадий имелся в каждом большом городе, и повсюду у него были помощники. Неясно, существовал ли верховный кадий. Возможно, им был столичный кадий, как в других государствах, или эта роль передавалась amir-dad. В отношении «свидетелей» правильного ведения дел в «Руме» нам известно только то, что они ставили свои подписи внизу документов о вакуфе, но их количество превышает число постоянных свидетелей ( shuhad ). Как и в соседних государствах Востока, в «Руме» существовал специальный армейский кадий (назначаемый за свои особые правовые и лингвистические знания) – cadi l-askar или qadi-I lashkar. Связанные с кадием знатоки права, судя по всему, являлись консультантами – muftis , но фактически применительно к «Руму» интересующего нас периода о них почти ничего не известно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
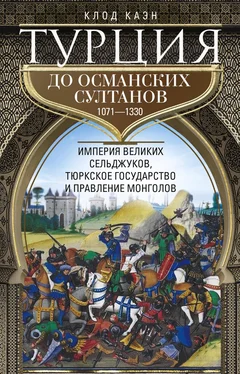
![Иван Божерянов - Великая разруха Московского государства, 1598–1612 гг. [с иллюстрациями]](/books/34973/ivan-bozheryanov-velikaya-razruha-moskovskogo-gosudar-thumb.webp)