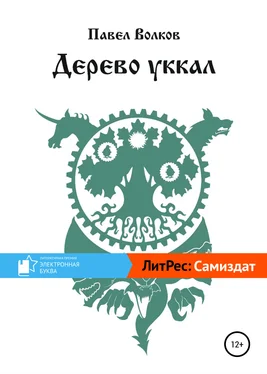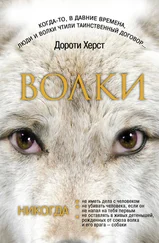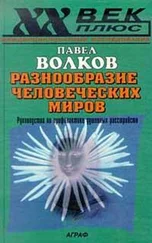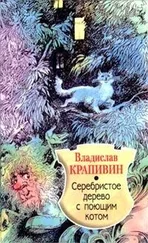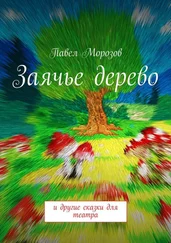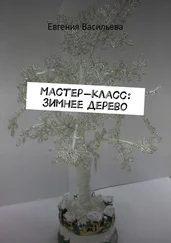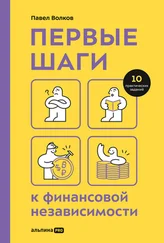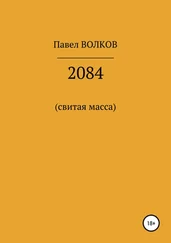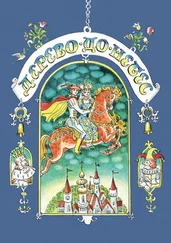Казаки построились в три шеренги и открыли огонь по кавалерии, готовой втоптать их в землю. Одна за другой падали лошади и седоки. Татары стали поворачивать назад. Истошно крича и стегая нагайкой разбегавшихся кто куда воинов, Маметкул пытался собрать отряд вновь и продолжить атаку. Григорий отчетливо видел его среди хаотичных метаний деморализованной толпы. Вскинув ружье и прицелившись, он сделал выстрел. Хана бросило на землю. Выхватив сабли, казаки побежали вслед за дрогнувшим противником. Грек спешил, надеясь взять в плен раненного Маметкула, однако вокруг предводителя собрались защитники. Отчаянно сопротивляясь, они сумели пробиться к зарослям кустарника на берегу, погрузили хана в невесть откуда взявшуюся лодку и отчалили.
В считанные минуты берег опустел. Казаки принялись карабкаться на кручу, где располагалась ставка Кучума. Пушки, забитые гвоздями, не могли сделать ни одного залпа. Тогда запаниковавшие татары начали сталкивать сами орудия на головы нападавших. Подняв брызги, они плюхнулись в реку и моментально ушли под воду, не причинив никому вреда. Оказавшись наверху, казаки не застали практически никого. Армия Кучума разбежалась, как, впрочем, исчез и сам грозный хан, так и не успев проявить ни хваленых полководческих талантов, ни устрашающей колдовской силы.
Путь к Искеру был открыт. Подойдя к столице, Григорий понял, почему Кучум решил не защищаться в ней. Укрепления Искера обветшали окончательно. Земляной вал осыпался, деревянные стены, окружавшие город, просели почти повсеместно. Кроме всего прочего, там оказалось просто мало места. Не то что татарская орда, пятьсот ермаковских воинов не имели никакой возможности разместиться в столице. Тем не менее не могла не радовать богатая добыча, попавшая в руки казаков – соболя, оружие, лошади. Поход удался.
* * *
Прошло несколько дней. Выпал снег, а реку сковало морозом. Татарские семьи из окрестных селений мал по малу стали возвращаться в покинутые жилища. В отличие от своих современников – бравых конкистадоров – русские казаки не спешили чинить зверства на захваченной ими территории. Вернувшихся татар привели к присяге царю и с этого момента стали считать их соотечественниками. Слух о поражении Кучума и новых хозяевах Искера распространился моментально. Из глухой тайги и непролазных болот появились представители местных народов. Они приезжали на собачьих упряжках, везя с собой продовольствие и предложение дружбы.
На казачьем кругу было решено подвести живущий в окрестности люд под «государеву царськую высокую руку», быть там «до веку, покамест Русская земля будет стояти», а также «зла никакого на всяких русских людей не думать». Учитывая обилие разнообразных примитивных верований среди местного населения, приводить народ к присяге решили не по-христиански, а так, как это обычно делали казаки – целованием окровавленной сабли. Такой ритуал показался всем наиболее понятным.
Тем временем Григорий готовился к отъезду. Удивительное и странное задание Ивана Грозного все еще не было выполнено, а потому не давало путнику покоя. Расспросив туземцев, грек выяснил, что севернее Иртыш впадает в великую реку Ас, несущую свои воды к самому океану. А в месте слияния двух рек, на излучине раскинулся остров, сходить на который смертному строго запрещено, ибо там место стыка двух миров – мира живых и мира духов. Эта легенда до ужаса совпадала с тем, что было услышано в царских покоях, и будила воспоминания детства – сказания о далеком и чудесном Лукоморье. В рациональности мышления грек во многом опередил свое время, но увиденное им за недолгий час пребывания в сибирской земле ставило под сомнение привычный уклад вещей. И если до того он еще колебался, вспоминая разговор с Борисом Годуновым, то теперь, в свете новых событий, окончательно решил продолжать поход. В конце концов, приказ государя, даже такой необычный, стоил большего, чем умозаключения боярина.
В теплом срубе вместе с Григорием находились еще двое: Ермак Тимофеевич – славный казачий атаман и Адам Каминский – неудачливый эмиссар польского короля. Скрывать от них было уже нечего. По деревянному полу деловито прохаживалось существо, находившееся большую часть времени в мешке грека. Совершенно не стесняясь людей, оно клевало краюху ржаного хлеба, периодически отвлекаясь на то, чтобы поковыряться продолговатым клювом в густой бурой шерсти, покрывавшей все его тельце.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу