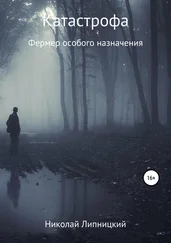— Немедленная и безоговорочная капитуляция, — прозвучал суровый ответ.
Суетясь и подпрыгивая, Шмидт тут же согласился на капитуляцию южной группировки.
Советские офицеры, наблюдая эти прыжки и ужимки, молча усмехались.
— Но я тоже ставлю условия! — прокричал Шмидт переводчику. — Недопустимо, чтобы офицеры в таких званиях устраивали допрос командующему или мне, начальнику его штаба. Показания военного порядка мы будем давать только командующему фронтом. Затем я требую обеспечить безопасность господина командующего армией.
— Не беспокойтесь, никто не собирается его убивать, — презрительно обронил старший советский офицер.
— Кто знает, вдруг найдется какой-нибудь фанатик!
— Хватит, — прервал его Адам, понявший неуместность всех этих рассуждений. Ему было ясно, что Шмидт заботится вовсе не о безопасности командующего, а о своей собственной шкуре.
— Да, хватит, — надменно пожав плечами, проговорил Шмидт. — Мы ждем для дальнейших переговоров, как я уже сказал, высшего офицера вашей армии или фронта.
Не прошло и часа, как в подвал спустился русский генерал, уполномоченный вести переговоры с командующим немецкой армией. И только перед ним Шмидт открыл свои карты:
— Ставлю вас в известность, господин генерал, что со вчерашнего дня господин командующий сдал командование и является в данный момент частным лицом.
— Ладно, — посмеиваясь, ответил генерал, заметив, как пыжится Шмидт, напуская на себя важность. — Ведите нас к «частному лицу».
Через коридор, очищенный по приказу Роске от офицеров — их выгнали во двор, — русский генерал и сопровождающие его офицеры направились к Паулюсу.
Тот уже все знал: Хайн сообщил ему, что Адам ведет переговоры о капитуляции.
Генерал-полковник промолчал. Как ни казалось ему странным, но именно в эту минуту он ощутил в себе легкость и необыкновенное чувство счастья и радости, словно только что встал после тяжелой болезни, словно ослабевшими ногами подошел к окну отцовского дома, а за ним расстилалась равнина, покрытая выпавшим ночью снегом, просторная и девственно-чистая, согреваемая светом солнца.
Теперь, скинувший ужасную тяжесть, давившую на душу все эти последние месяцы, он понял, что другая жизнь, которая ждет его за стенами подвала, прекрасна, какой бы она ни оказалась для него. Его не будут мучить сложные проблемы, возникавшие каждый час. Дерется ли еще Штреккер или нет, стреляют ли где-то фанатики и изуверы — нацисты, не желающие склониться перед очевидностью, — какое ему дело до них? Безразлично ему было и то, что говорят о нем там, в Германии!
Он жив — и это главное. И живы те, кто, не поверив лжи, написанной в его последнем приказе, вырванном у него в минуту душевной слабости, подчинились голосу благоразумия. И это тоже самое главное.
Он выполнил свой долг, и не его вина в том, что отец и мать, все люди, с которыми он сталкивался, и обстоятельства сделали его послушным, послушным даже тогда, когда послушание влекло за собой трагические последствия. Что ж, бывает и так: сколько людей, столько и характеров. Он со своим характером оказался вовлеченным в стихию, где нужно было не послушание, а твердая и жестокая воля, которая продиктовала бы ему единственный выход из положения: не лгать в приказах, не посылать тысячи солдат на смерть.
Но зло, содеянное им, не поправить. Оно всегда, до конца дней будет лежать тяжелым камнем на его совести.
«Однако, — размышлял генерал-полковник, — лучше, когда человек подвержен укорам совести, нежели циничное равнодушие ко всему на свете, безразличие и душевная пустота насквозь прогнивших политиков, исторгающих истерические фанфаронские вопли».
Ощущение свободы после того, как жестокое бремя спало с его уставших плеч, чувство облегчения после кошмарного сна, как это случается с каждым человеком, придали генерал-полковнику сил; оптимизм, который давно покинул его, вернулся к нему.
Будь что будет. Хуже того, что было, быть не может! Даже если его проведут в цепях по Москве… Что ж, пусть люди бросают ему обвинения и оскорбления в лицо, ведь и он участник вероломства, преступлений и ужасов, смерчем пронесшихся над этой страной.
Пусть будут Сибирь и каторга — и там живут люди, очищая свои души от скверны.
Пусть будет что угодно, но он не услышит больше грохота канонады и предсмертных стонов солдат. И не может быть места более отвратительного, чем этот подвал, где он прятался от смерти, зная, что кругом она косит людей своей жестокой косой.
Читать дальше
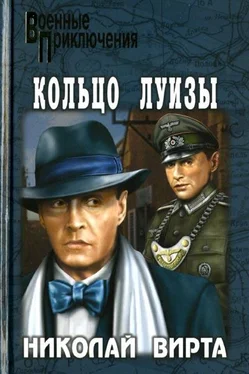
![Николай Вирта - В одной стране - Заговор обреченных, Три года спустя [Пьесы]](/books/49737/nikolaj-virta-v-odnoj-strane-zagovor-obrechennyh-thumb.webp)