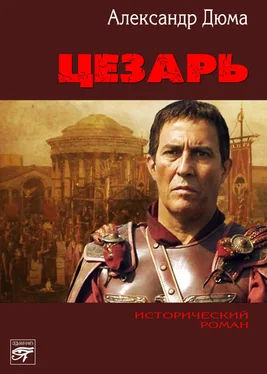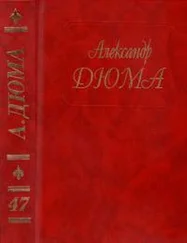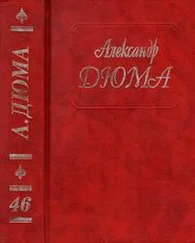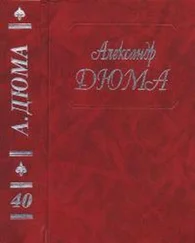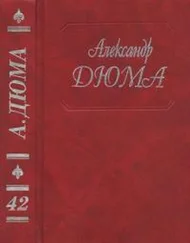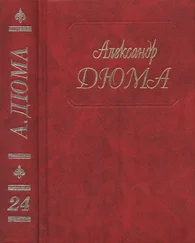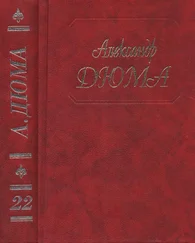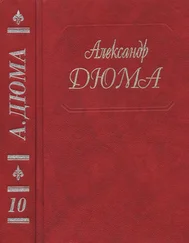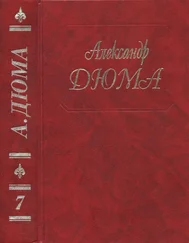Я знаю, что было время, когда я мог бы умереть с большей пользой и достоинством, но, как и многие другие, я упустил его. Не будем возвращаться к прошлому; это оживит ваши муки и выставит напоказ мою глупость. Но я клянусь вам, что не повторю своей ошибки, и не стану терпеть унижение и позор такой жизни сверх времени, необходимого для вашего счастья и ваших интересов. Вы видите, брат мой: тот, кто некоторое время назад мог назвать себя счастливейшим из смертных, имя вас, таких детей, такую жену, такое богатство; тот, кто некоторое время назад был на равных с величайшими из людей по почестям, доверию, уважению и влиянию, – он впал в такое ничтожество, в такую бездну, что он должен был бы принять иное решение, нежели продолжать оплакивать постыдным образом себя и своих близких. Теперь, помилуйте, что вы мне пишите о заемном письме? Разве я не живу на ваши средства? Увы, даже в этом я вижу и признаю свою вину. Что мог предвидеть я, более ужасного, чем это чувство, что я вынуждаю вас вашими внутренностями и внутренностями вашего сына удовлетворять ваших должников? А я, я получил и растратил впустую деньги, которые казна Республики выдала мне на ваше имя. И все же я уплатил Марку Антонию и Цепиону столько, сколько вы мне написали. Что же до меня, то мне хватит и того, что есть; одержим ли мы верх, или нам следует расстаться с надеждой, большего мне не понадобится. Если мы попадем в сильное затруднение, я думаю, вам следует обратиться либо к Крассу, либо к Калидию. Есть еще Гортензий, но я не знаю, стоит ли вам доверять ему. Всячески выказывая ко мне самую нежную дружбу и окружая меня заботливейшим вниманием, он непрестанно вместе с Аррием совершал против меня самые гнусные и коварные преступления. Это по их советам, это в надежде на их обещания я пал в эту пропасть.
Однако держите это про себя из опасения, как бы они не стали чинить вам препятствия. Впрочем, думаю, что через Помпония я добьюсь расположения Гортензия. Следите также, чтобы какие-нибудь лжесвидетели не приписали вам тот стишок по поводу закона Аврелия, который распространился, когда вы добивались эдилата. Я ничего так не боюсь сейчас, как того, что люди почувствуют ваше сострадание ко мне, потому что тогда вся ненависть, направленная на меня, обрушится на вас. Я считаю, что Мессала ваш искренний друг. Я полагаю, что Помпей, если и не является им, захочет им казаться. Но пусть воля богов будет такова, чтобы вам не пришлось обращаться к ним. Об этом я буду молить их, если они еще станут внимать моим молитвам. Все, на что я отваживаюсь, это просить их не посылать на нас новых бед, которые раздавят нас; в этих несчастьях ни одно средство не будет постыдным. Более того, и эта мука для меня тяжелее остальных, потому что она приводит меня к сомнению, я вижу, что причиной гонений, которым я подвергаюсь, стали мои самые благородные побуждения. Я не поручаю вам ни мою дочь, которая и ваша тоже, ни нашего Цицерона. Есть ли на свете вещь, которая заставила бы меня страдать, не принося вам таких же страданий? Пока вы живы, брат мой, я спокоен: мои дети никогда не останутся сиротами. Что же до остального, то есть того, что касается моего спасения и моей надежды встретить свой конец на родине, я не могу вам написать об этом: слезы смывают то, что выводит рука. Прошу вас, позаботьтесь о Теренции; пишите мне обо всем. Наконец, брат мой, будьте тверды настолько, насколько человеческая природа позволяет сохранять стойкость в подобных обстоятельствах».
Но все эти новости, о которых Цицерон спрашивал своего брата, вряд ли успокоили бы его. После его отъезда Клодий не только, как мы уже говорили, объявил о его изгнании; он также сжег все его загородные дома и, пожив немного в его доме на холме Палатин – том самом доме за три миллиона пятьсот тысяч сестерциев, – он сравнял его с землей и на его месте построил храм Свободы.
Кроме того, он пустил с молотка все имущество изгнанника, и каждый день сбавлял на него цену. Но, надо отдать римлянам справедливость, какой бы низкой ни была эта цена, ни разу никто не заплатил ее. Вот как было с Цицероном.
Посмотрим, что делали остальные.
Среди всего этого политического разврата в Риме творилось нечто странное, напоминавшее спектакль, поставленный для народа, чтобы заставить его поверить в лучшие времена Республики. Этот спектакль давал Катон.
Катон был чем-то вроде серьезного шута, которому позволялось говорить и делать все, что угодно. Он был скорее забавен, чем любим; народ бегал поглядеть, как Катон выходит на улицу без туники и босиком. Катон пророчествовал; но его пророчества, как вопли Кассандры, никто не слушал.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу