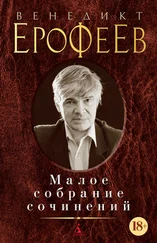Наливает ему.
Сережа (прижимая кружку к сердцу). Ура! Моя мама жива!
Пашка. Ура! Я ее не убивал!
Мгновенно выхватывает кружку из рук Сережи и залпом выпивает.
Гуревич. Ты ловок, Паша, как я погляжу. Но здесь ты не сорвешь рукоплесканий. А вот по морде смажут — это точно — «Привратно и в партикулярной форме».
Прохоров. Рене Декарт?..
Обращаясь к Паше.
Короче, друг любезный,
Ступай-ка ты по утренней росе!
Паша, получив от старосты пощечину, икает и присоединяется к пляшущим.
Гуревич. Нет, ты только посмотри, староста! Значит, все-все было не напрасно, все революции, религиозные распри…
Прохоров. Улицы я уже переименовал, эстрадных вокалистов утопил. Теперь уже пора бы…
Гуревич. Да, да. Теперь уже пора бы менять этикетки. А то ну, что это за преснятина? «Юбилейная», «Стрелецкая», «Столичная»… Когда я это вижу, у меня с души воротит. Водяра должна быть, как слеза, и все ее подвиды должны называться слезно. Допустим так: «Девичья Горючая», пять рублей двадцать копеек, «Мужская Скупая» — семь рублей. «Беспризорная Мутная» — четыре семьдесят. «Преступная Ненатуральная» — четыре двадцать. «Вдовья Безутешная» тоже не очень дорого: четыре сорок. «Сиротская Горькая» — шесть рублей. Ну и так далее. Но только прежде чем ломать Россию на глазах изумленного человечества, надо бы вначале ее просветить…
Прохоров. Вот-вот. Наша запущенность во всех отраслях знания… подумать страшно! Я, например, у очень многих спрашивал: сколько все-таки граней в граненом стакане? Ведь у каждого советского стакана одинаковое количество граней. И представь себе — никто не знает. Из ста сорока пяти опрошенных только один ответил правильно, и то невзначай. Пока не поздно, я думаю, не начать ли в России эпоху Просвещения?..
Гуревич. Так мы ее уже начали. Пока — в пределах третьей палаты. А там, смотришь… Ну, чем был наш народ до нас? Вялый демонизм, унылое сумасбродство. Бесшабашность, сотканная из зевот. Ни в ком — никакого благородия, никакого степенства, ни малейшего превосходительства. А уж о высочестве, тем более о величестве, и говорить не приходится. Когда я, будучи на воле, глядел на наших русских, я бывал иногда так переполнен скорбью, что с трудом втискивался в автобус…
Прохоров (патетически). Я тоже. Я считаю, что мы немножко недоделаны и недоношены. Но в нас есть заколдованность. Я чувствую это по себе, а сегодня ночью особенно…
Гуревич. Ничего, ничего. Доносим, расколдуем, доделаем. А если в ком есть еще полузадушенность и недоразвитость — так это тоже легко поправимо…
Тем временем Алеха, Витя, Коля, Сережа и Михалыч медленно приближаются к двум мыслителям и смотрят на них с разной степенью обожания.
Прохоров. Алеха?!
Алеха. Мы все тут.
Прохоров. И хорошо, что все.
Гуревич. Вот именно. Там, на вонючем Западе, там тоже все только и делают, что стоят в очередях за бесплатной похлебкою. Ватикан им выдает похлебку или еще кто — не знаю, но они глядят при этом в сторону России и думают… О чем же они там думают, я тоже не знаю, — но как бы то ни было, мы должны быть постоянно начеку и готовить себя к подвигу! А вы готовите себя к подвигу?
Витя. Еще как готовим!
Гуревич. Ну, вот и прекрасно.
Обносит напитком всех поочередно. Продолжает при этом.
В сущности, мне их жалко. Мы с вами сейчас тоже тремся в очереди — но ведь не за жалкой ватиканской похлебкой, а за предметом высшей категории! Это тоже надо понимать!.. И потом — они разобщены: у каждого свой трепет, свое урчанье в животе. У нас — один трепет и одно урчанье!
Алеха. Ура!
Прохоров. Это ты к чему, дурак, крикнул «ура»?
Алеха. А потому, что они разобщены. И мы их передушим, как котенков.
Прохоров. Как ты думаешь, Гуревич: передушим?
Гуревич. Да душить-то пока зачем? Так уж сразу и душить! Миротворнее нас — нет среди народов. Но если они и дальше будут сомневаться в этом, то в самом ближайшем будущем они и впрямь поплатятся за свое недоверие к нашему миролюбию. Ведь им, живоглотам, ни до чего нет дела, кроме самих себя. Ну, вот Моцартова колыбельная: «Спи, моя радость, усни»… «Кто-то вздохнул за стеной — что нам за дело, родной? Глазки скорее сомкни…» И так далее. Им, фрицам, значит, наплевать на чужую беду, ни малейшего сочувствия чужому вздоху. «Спи, моя радость»… Нет, мы не таковы. Чужая беда — это и наша беда. Нам есть дело до любого вздоха, и спать нам некогда. Мы уже достигли в этом такой неусыпности и полномочности, что можем лишить кого угодно не только вздоха, тяжелого вздоха за стеной, — но и вообще вдоха и выдоха. Нам ли смыкать глаза!
Читать дальше