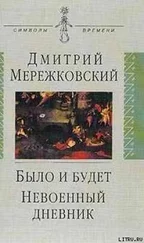Федор.Верно, Катя, верно! Именно, стыда нет. Какая вы вещая! Все знаете… Что нет стыда, это и старец мне говорил намедни. «Макаки, – говорит, – макаки… не люблю макак!»
Катя.Что это?
Федор.Обезьянка такая бесстыжая. Я сначала не понял. А это он обо мне, о таких, как я, нестыдящихся.
Катя.А вы и теперь не стыдитесь?
Федор.Да, и теперь, – только по-другому… А, может быть, я теперь слишком стыжусь?
Катя.Все равно. У вас нет меры стыда, нет меры ни в чем.
Федор.И это – «ах, как красиво»?
Катя.Да, не без пошлости.
Федор.Как же быть, Катя? Кальвин, что ли, учил, что есть люди погибшие: что бы ни делали, все равно не спасутся, потому что осуждены от века, прокляты. Вот и старец намедни толковал притчу о плевелах: посеял человек пшеницу на поле своем, а ночью пришел враг и всеял плевелы. Враг – диавол, пшеница – сыны Божьи, а плевелы – сыны диавола – несуществующие души. [13]
Катя.И вы себя считаете плевелом?
Федор.Да, не пшеницею.
Катя.Кто это может знать? Тут что-то не так.
Федор.В притче не так?
Катя.Не в притче, а мы чего-то не знаем.
Федор.И старец не знает?
Катя.И старец.
Федор.А вы, Катя, знаете?
Катя.Нет, я тоже не знаю. Но я знаю, что не знаю, а старец думает, что знает все.
Федор (после молчания). А можно, Катя, с вами так не стыдиться, как я сейчас?
Катя.Можно, – так можно.
Федор.Ну, так вот что. С детства, с самого раннего детства, как помню себя, у меня такое чувство, что все люди как люди, а я…»макака».
Катя.Это не от гордости?
Федор.Может быть, и от гордости… И вот еще что. У портных иногда зеркала углом поставлены, платье примерять, чтобы лучше видно было сбоку и сзади. Боюсь я этих зеркальных углов, ох, как боюсь! Спереди-то я ничего, даже недурен как будто, – «ах, как красиво!» А вот сбоку-то, сбоку, почти сзади – не узнаю себя, – в затылке, там, где скоро плешь начнется, да и в лице, особенно, в нижней челюсти, в углу носа и лба – что-то звериное, хищное, и смешное, и стыдное, стыдное… Сам себе чертом кажусь, своим собственным чертом…
Катя.А вы в черта верите?
Федор.Не знаю, право. В Бога-то вот не верю, а в черта, не знаю, может быть, и верю… Должно быть, это от бабушки да дедушки, купцов Вахрамеевых. Говорят, прадед наш старовером был, федосеевцем. [14]Ну, и от матери тоже: святая, смиренница, воды не замутит, а черта боялась; – так и умерла со страху. Вот и Гриша в нее… А знаете, Катя, я вам сейчас как на духу каюсь – вот, как старцу. И почему это вдруг?.. А кажется, что вы поймете, – не простите, нет, да и что прощать?.. А только поймете, но ведь и этого довольно.
Катя.Да, пойму. А простить вас, значит, и себя простить: когда вы о себе говорите, мне кажется, что и я в зеркальном углу, и тоже себе не очень-то нравлюсь. У каждого свой черт. А насчет проклятых от века, кто это подумал, тот был сам во власти черта.
Федор.Какая вы тихая, Катя, тихая, вещая, грозная – вот как эти зарницы на небе! Тишина, тишина, молчание, «Silentium».
Молчи, скрывайся и таи
И чувства, и мечты свои…
Катя, милая, отчего вы мне помочь не хотите?
Катя.Хочу, да не могу. Мы с вами в разных «колодцах» сидим, – рядом, но в разных. Помните, «Колодцы молчания»?
И сторожит Молчанья Демон
Колодцы черные свои… [15]
Федор.Ну, так перекликаться давайте, перестукиваться, вот как в одиночных камерах.
Катя.А вы не шутите?
Федор.Да нет же, нет, милая! Ну, посмотрите мне в глаза, разве так шутят? Разве вы не видите?
Катя.Вижу… нет, не вижу… (После молчания). А может быть, вы… Федор Иванович, вы не обидитесь?
Федор.Нет, Катя, не обижусь. Я никогда ни на что не обижаюсь.
Катя.Потому что презираете – «плюете на все»?
Федор.Ни на что я не плюю. Вы знаете: я не других, а себя презираю… Что же вы хотели сказать?
Катя.Может быть; вы жалкий, такой жалкий, что с вами нельзя говорить; как я сейчас?
Федор.Ну, так пожалейте, Катя!
Катя.А Татьяна Алексеевна… Татьяна Алексеевна вас не жалеет?
Федор (усмехаясь). Почему вы вдруг о ней вспомнили?
Катя.Мне казалось, вы друзья…
Федор.Любопытство, Катя?
Катя.Простите. Я думала, что вы постучались ко мне… А любопытство – нет: уж если я чем страдаю, так нелюбопытством.
Читать дальше