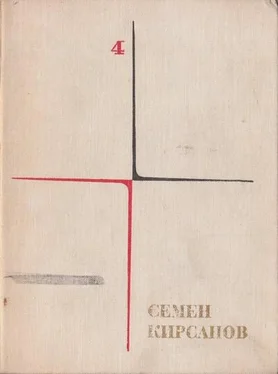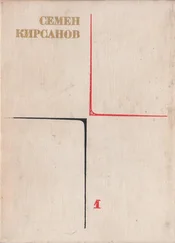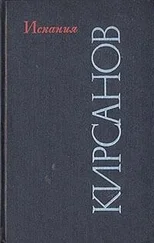Все дни мои нанизаны
на проволочку золотого голоса.
Жизнь начинается у трубки тут,
кончается у трубки там.
Тащу ее к себе зеленою косичкою шнура,
никак не вытащу все остальное к голосу.
Так оно и будет.
Явлюсь в милицию с охапкой проводов
отрезанных,
где в каждом миллиметре проволочки
есть мое:
— Иди ко мне!
Другая любовь
Если были у меня увлечения
среди бреда болезни «никогонелюбить» —
было одно исключение,
исцелительными письмами лечение
сумасшедшей и любящей девушки,
письмами,
которых никогда не забыть,
лечение.
Из Ленинграда в казенных конвертах
со сноской на мост Грибоедова
они приезжают ко мне…
Я ее не «люблю», она слишком высокая,
кареокая,
большая лицом и глазами,
а хочет казаться мне по плечо.
И еще,
она подгибает колени и голову набок,
и живет в Ленинграде, чтоб не мучиться
близко около злого меня.
Письма на бумаге для денег
(она служит в Гознаке, где печатают
деньги).
Я ни разу ей не дарил ничего,
ни духов, ни чулок,
не был с нею в кино и в театре,
яблок не приносил из буфета
в торжественный зал.
Два чудовищных года любит меня,
а могла бы любить Владислава
(это жених,
инженер,
двадцать восемь лет,
на пять сантиметров выше меня).
Когда она пишет, мне кажется,
я душою похож на ее слова.
А любить —
нет и нет
наотрез.
Она слишком высокая,
и мне неудобно с нею стоять в антракте.
Я не тот человек, я ломаю две жизни,
две любви, две семьи
из-за восьми сантиметров разницы в росте.
Но письма! В целительных письмах
я нахожу целебный экстракт,
я пользуюсь ею,
пользуюсь больше, чем можно.
Она, вероятно, умрет,
как девушка-донор во время переливания
крови
больному
в письмах
из Ленинграда в Козловск.
Когда…
Когда я делюсь желаньем
с товарищем,
а он отдаряет меня исполненьем желанья;
когда «воскресенье» похоже
на «понедельник»
и работают шесть воскресений в неделю
подряд;
когда все уступают друг другу дорогу
и поэтому нет толкотни;
когда не остается в городе ни одной
желающей стать домашней работницей;
когда
никто не говорит «никогда»;
когда исчезает взгляд на вещи
как взгляд покупателей;
когда крикнуть «люблю тебя»
можно при многих прохожих,
не опасаясь усмешек;
когда «человеку грустно»
звучит,
как «человек заболел»,
и имеется скорая помощь для несчастливых;
и когда еще и еще
другое, о чем я еще напишу, —
это мой взгляд на вещи.
С глаз долой, базарные жадные вещи,
не на вас мой взгляд.
«До сих пор»
Мы обязательно будем
старинными.
Даже и я,
новый, как металлическая деталь
в целлофане,
буду древним,
как кладбищенский римлянин.
Жил я в годы грубых машин,
первобытного радио,
примитивно-сложных моторов,
на заре примененья атомных сил.
Будущее не похоже
на настоящее будущее,
как гороскоп на биографию.
Прошлое —
крошечное, как дверная щель.
Мы — урок,
отмеченный крестиком школьника:
дсп
(до сих пор).
И это так далеко —
в глубине веков!
Обнимитесь
и поцелуйтесь,
и усните —
щекой на плече.
Так придумала
молодая глубокая древность
и дсп —
до сих пор,
до сорок пятого века,
не изменила человеческая мысль.
Забытое слово
Война во Франции приносит
много новых рифм.
Особенно на слово «умер».
Когда уже и рот
от смерти сиз —
лежит у провода связист,
а буквы все выстукивает зуммер.
Как только
немцы применили миномет,
поэты кинулись записывать в блокноты
неполный ассонанс на слово «мертв».
Везет на рифмы
смерти —
их сбрасывают вниз десантами
в Бизерте.
Безрезультатно я сижу ночами
над новой рифмой к слову «жизнь».
На оккупированной территории
из словарей исчезло
это слово,
замаранное черным:
жизнь.
Начало войны
Когда птицы летели,
этого не было.
Птицы только садились на шпили,
птицы пили
фонтанную воду,
клевали кленовые пропеллеры.
Побудут на карнизах,
дождь переждут,
исполнят чириканье на бульваре —
и дальше, расшаркиваясь серым крылом,
летят,
не сделав больно городу.
А эти
пролетели —
не стало города.
Флюгерные вышки
упали в фонтаны.
Рукотворною молнией
расщеплены клены,
залетные птицы прибиты к карнизам,
а карнизы обрызгали штукатуркой асфальт.
Кстати,
нет бульвара —
есть четыре воронки
с обгорелыми скамьями по краям.
Читать дальше