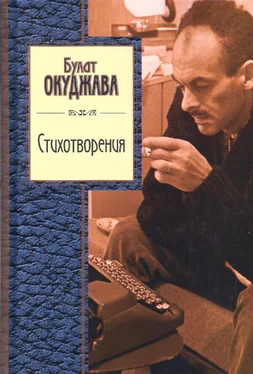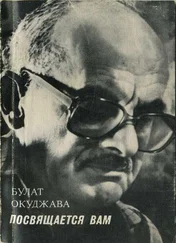Что мне сказать? Еще люблю свой двор,
его убогость и его простор,
и аромат грошового обеда.
И льну душой к заветному Кремлю,
и усача кремлевского люблю,
и самого себя люблю за это.
Он там сидит, изогнутый в дугу,
и глину разминает на кругу,
и проволочку тянет для основы.
Он лепит, обстоятелен и тих,
меня, надежды, сверстников моих,
отечество… И мы на всё готовы.
Что мне сказать? На всё готов я был.
Мой страшный век меня почти добил,
но речь не обо мне — она о сыне.
И этот век не менее жесток,
а между тем насмешлив мой сынок:
его не облапошить на мякине.
Еще он, правда, тоже хил и слаб,
но он страдалец, а не гордый раб,
небезопасен и небезоружен…
А глина ведь не вечный матерьял,
и то, что я когда-то потерял,
он в воздухе арбатском обнаружил.
«Ну что, генералиссимус прекрасный…»
Ну что, генералиссимус прекрасный,
потомки, говоришь, к тебе пристрастны?
Их не угомонить, не упросить…
Одни тебя мордуют и поносят,
другие всё малюют, и возносят,
и молятся, и жаждут воскресить.
Ну что, генералиссимус прекрасный?
Лежишь в земле на площади на Красной…
Уж не от крови ль красная она,
которую ты пригоршнями пролил,
пока свои усы блаженно холил,
Москву обозревая из окна?
Ну что, генералиссимус прекрасный?
Твои клешни сегодня безопасны —
опасен силуэт твой с низким лбом.
Я счета не веду былым потерям,
но, пусть в своем возмездье и умерен,
я не прощаю, помня о былом.
«Как наш двор ни обижали — он в классической поре…»
Как наш двор ни обижали — он в классической поре.
С ним теперь уже не справиться, хоть он и безоружен,
А там Володя во дворе,
его струны в серебре,
его пальцы золотые, голос его нужен.
Как с гитарой ни боролись — распалялся струнный звон.
Как вино стихов ни портили — всё крепче становилось.
А кто сначала вышел вон,
а кто потом украл вагон —
всё теперь перемешалось, всё объединилось.
Может, кто и нынче снова хрипоте его не рад,
может, кто намеревается подлить в стихи елея…
А ведь и песни не горят,
они в воздухе парят,
чем им делают больнее — тем они сильнее.
Что ж печалиться напрасно: нынче слезы лей — не лей,
но запомним хорошенечко и повод, и причину.
Ведь мы воспели королей
от Таганки до Филей,
пусть они теперь поэту воздают по чину.
Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант.
В Безбожном переулке хиреет мой талант.
Вокруг чужие лица, враждебные места.
Хоть сауна напротив, да фауна не та.
Я выселен с Арбата и прошлого лишен,
и лик мой чужеземцам не страшен, а смешон.
Я выдворен, затерян среди чужих судеб,
и горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб.
Без паспорта и визы, лишь с розою в руке
слоняюсь вдоль незримой границы на замке
и в те, когда-то мною обжитые края
всё всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я.
Там те же тротуары, деревья и дворы,
но речи несердечны и холодны пиры.
Там так же полыхают густые краски зим,
но ходят оккупанты в мой зоомагазин.
Хозяйская походка, надменные уста…
Ах, флора там всё та же, да фауна не та…
Я эмигрант с Арбата. Живу, свой крест неся.
Заледенела роза и облетела вся.
Посвящается учащимся 33-й московской школы, придумавшим слово «арбатство»
Пускай моя любовь как мир стара, —
лишь ей одной служил и доверялся
я — дворянин с арбатского двора,
своим двором введенный во дворянство.
За праведность и преданность двору
пожалован я кровью голубою.
Когда его не станет — я умру,
пока он есть — я властен над судьбою.
Молва за гробом чище серебра
и вслед звучит музыкою прекрасной…
Но ты, моя фортуна, будь добра,
не выпускай моей руки несчастной.
Не плачь, Мария, радуйся, живи,
по-прежнему встречай гостей у входа…
Арбатство, растворенное в крови,
неистребимо, как сама природа.
Еще он не сшит, твой наряд подвенечный,
и хор в нашу честь не споет…
А время торопит — возница беспечный, —
и просятся кони в полет.
Читать дальше