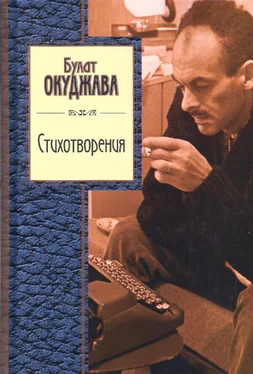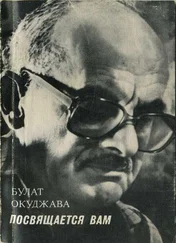Ах, только бы тройка не сбилась бы с круга,
не смолк бубенец под дугой…
Две вечных подруги — любовь и разлука —
не ходят одна без другой.
Мы сами раскрыли ворота, мы сами
счастливую тройку впрягли,
и вот уже что-то сияет пред нами,
но что-то погасло вдали.
Святая наука — расслышать друг друга
сквозь ветер, на все времена…
Две странницы вечных — любовь и разлука —
поделятся с нами сполна.
Чем дольше живем мы, тем годы короче,
тем слаще друзей голоса.
Ах, только б не смолк под дугой колокольчик,
глаза бы глядели в глаза.
То берег — то море, то солнце — то вьюга,
то ангелы — то воронье…
Две вечных дороги — любовь и разлука —
проходят сквозь сердце мое.
«Всему времечко свое: лить дождю, земле вращаться…»
Всему времечко свое: лить дождю, земле вращаться,
знать, где первое прозренье, где последняя черта…
Началася вдруг война — не успели попрощаться,
адресами обменяться, не успели ни черта.
Где встречались мы потом? Где нам выпала прописка?
Где сходились наши души, воротясь с передовой?
На поверхности ль земли? Под пятой ли обелиска?
В гастрономе ли арбатском? В черной туче ль грозовой?
Всяк неправедный урок впрок затвержен и заучен,
ибо праведных уроков не бывает. Прах и тлен.
Руку на сердце кладя, разве был я невезучим?
А вот надо ж, сердце стынет в ожиданье перемен.
Гордых гимнов, видит Бог, я не пел окопной каше.
От разлук не зарекаюсь и фортуну не кляну…
Но на мягкое плечо, на вечернее, на ваше,
если вы не возражаете, я голову склоню.
У парижского спаниеля лик французского короля,
не погибшего на эшафоте, а достигшего славы и лени:
набекрень паричок рыжеватый, милосердие
в каждом движенье,
а в глазах, голубых и счастливых, отражаются
жизнь и земля.
На бульваре Распай, как обычно, господин
Доминик у руля.
И в его ресторанчике тесном заправляют
полдневные тени,
петербургскою ветхой салфеткой прикрывая
от пятен колени,
розу красную в лацкан вонзая, скатерть белую
с хрустом стеля.
Этот полдень с отливом зеленым между нами
по горстке деля,
как стараются неутомимо Бог, Природа, Судьба,
Провиденье,
короли, спаниели, и розы, и питейные все заведенья,
Сколько прелести в этом законе! Но и грусти
порой… Voilà!
Если есть еще позднее слово, пусть замолвят его
обо мне.
Я прошу не о вечном блаженстве — о минуте
возвышенной пробы,
где возможны, конечно, утраты и отчаянье даже,
но чтобы —
милосердие в каждом движенье и красавица
в каждом окне!
«Собрался к маме — умерла…»
Собрался к маме — умерла,
к отцу хотел — а он расстрелян,
и тенью черного орла
горийского весь мир застелен.
И, измаравшись в той тени,
нажравшись выкриков победных,
вот что хочу спросить у бедных,
пока еще бедны они:
собрался к маме — умерла,
к отцу подался — застрелили…
Так что ж спросить-то позабыли,
верша великие дела:
отец и мать нужны мне были?
…В чем философия была?
Музыкант играл на скрипке — я в глаза ему глядел.
Я не то чтоб любопытствовал — я по небу летел.
Я не то чтобы от скуки — я надеялся понять,
как умеют эти руки эти звуки извлекать
из какой-то деревяшки, из каких-то грубых жил,
из какой-то там фантазии, которой он служил?
Да еще ведь надо пальцы знать к чему прижать когда,
чтоб во тьме не затерялась гордых звуков череда.
Да еще ведь надо в душу к нам проникнуть и поджечь…
А чего с ней церемониться? Чего ее беречь?
Счастлив дом, где пенье скрипки наставляет нас
на путь
и вселяет в нас надежды… Остальное как-нибудь.
Счастлив инструмент, прижатый к угловатому плечу,
по чьему благословению я по небу лечу.
Счастлив тот, чей путь недолог, пальцы злы,
смычок остер,
музыкант, соорудивший из души моей костер.
А душа, уж это точно, ежели обожжена,
справедливей, милосерднее и праведней она.
Грозной битвы пылают пожары,
и пора уж коней под седло.
Изготовились к схватке гусары:
их счастливое время пришло.
Впереди — командир, на нем новый мундир,
а за ним — эскадрон после зимних квартир.
А молодой гусар, в Амалию влюбленный,
он всё стоит пред ней коленопреклоненный.
Читать дальше