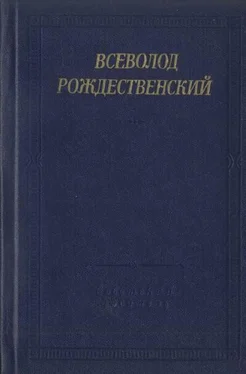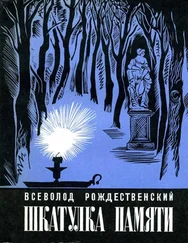11–12
Не сложен рабьими руками,
А дивно вырос из земли.
14
Он белой схимою покрыт,
21–36
Пчелиный разум Византии
Лепил апсиды и притвор,
Чтоб грозным именем Софии
Остановил он праздный взор,
Но я — задумчив и беспечен —
Иду сегодня, сам не свой,
Как утро прост, как дым не вечен,
По крутолобой мостовой.
А день восходит ясноликий,
А Ильмень-Озеро светло.
Но терпким привкусом брусники
Мне всё же сердце обожгло.
Над потонувшею Россией
Стою в каком-то смутном сне, —
И сизый шлем святой Софии
Мне ясно виден в глубине…
БМ 3–36
Чаще вспоминает Эвридика
Ледяное озеро, кувшинки
И бежит босая по тропинке
К желтой пене мельничных колес.
В соскользнувшем облаке рубашки
Вся она как стебель. А глаза —
Желтые мохнатые ромашки.
Сзади поле с пегим жеребенком,
На плече, слепительном и тонком,
Синяя сквозная стрекоза.
Вот таким в зеленом детстве мира
(Разве мы напрасно видим сны?)
Это тело, голубая лира,
Билось, пело в злых руках Орфея
На лугах бессмертного шалфея
В горький час стигийской тишины.
Эвридика! Ты пришла на север.
Я благословляю эти дни.
Белый клевер, вся ты белый клевер!
Дай мне петь, дай на одно мгновенье
Угадать в песке напечатленье
Золотой девической ступни.
Дрогнут валуны, взревут медведи,
Всей травой вздохнет косматый луг,
Облако в доспехе ратной меди
Остановится над вечным склоном,
Если вместе с жизнью, с пленным стоном,
Лира выпадет из рук.
Загл. ЗАЗДРАВНЫЙ ТОСТ
Ладога 3–4
От дружеских пиров и гордых восклицаний,
Я пью, высокий тост со дружеством деля.
Вместо 6–40
Всё пережитое встает костром высоко!
Я — сверстник Октября и соименник Блока —
В его лицо взглянуть хочу в последний раз.
Да, молодость была глупа и хороша!
Но есть всему черед, времен круговращенье,
И холод поздних лет нам обостряет зренье,
И словно старый сад растет у нас душа.
Иные, лучшие даны нам времена…
Сквозь стужу, голод, смерть звучал нам чести голос,
Когда за жизнь свою родимая страна
В неистовых боях мужала и боролась.
Мы знаем жар огня, нам ведом хлеба вкус,
И что такое жизнь — на ощупь слышат руки,
Мы дом свой пронесли сквозь холода разлуки,
И солнца наших встреч не влить в пределы чувств.
Всё, что утрачено, мы возвратили вновь
И в мужестве боев себе добыли право:
Как знамя развернуть святое имя «Слава»,
Сквозь ненависть пройдя, произнести «Любовь».
Потомки с гордостью помянут песней нас,
И тот, кто с нами был в походах хоть однажды,
Тому уж не уйти от негасимой жажды:
Пусть миг один, но жить, вот в эти дни, сейчас!
9 Снились мне взгорья и рощи, где солнце запутало косы,
12–15
Села ползли по оврагам, и яблонь цвела на краю.
Шел я по звонким дорогам, — было мне двадцать — не больше,
Песня бродила по жилам, темный боярышник цвел,
Прямо в лицо мне смеялась голубоглазая Польша,
18 Ласточки резали воздух, тихо дымилась река.
Вместо Сердце — Марыся — Марина! Имя твое неизменно,
21–40
Свежий ковер маргариток, дедовский пенистый мед,
Шум кринолинного шелка в разбеге мазурок Шопена,
Звезды и пламя повстанцев в сугробах медвежьих охот.
Ты — это снег на Карпатах, дубовые срубы в камине,
Шелест девичьих светелок, отцовский закрученный ус,
Цоканье четок и речи, звонкая льдинка латыни,
Хлопья росистого сада, белого яблока хруст.
Может быть, это — судьба моя — пена и пламя, Марыся!
По снегу пели полозья, вспыхивал синий зрачок.
Сыпался порох на полку, жгла меня оторопь рысья,
Ты рукавичку роняла — и было лишь мне невдомек.
Что ж! Скорей на коня! Стисни сердце и шпоры,
Плетью воздух резнув, ляг на луку, гони,
Тысячу гончих спусти с туго натянутой своры —
Пусть они рвут и клубят в лес уходящие дни!
Пусть, обезумев, гнедой в лунные вломится буки,
Оземь ударив тебя, вырвет из памяти день, —
Алую струйку со лба вытрут прохладные руки,
Очи затянет туман — белая девичья тень.
Читать дальше