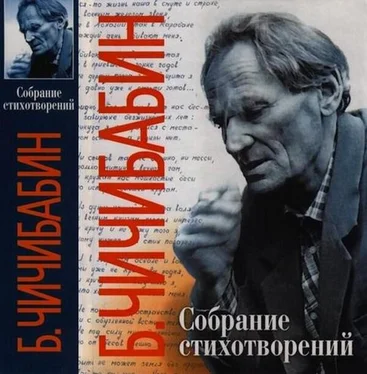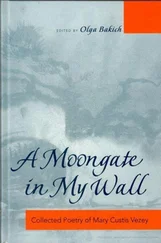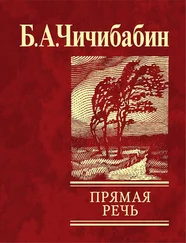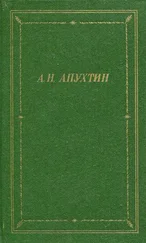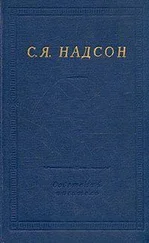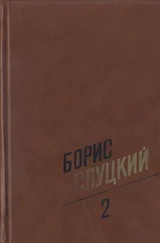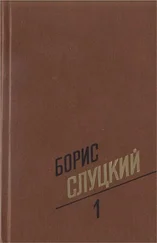И дальний гул казацкой славы,
как будто дань добру и силе,
его кустарники и травы
в своем дыханье доносили.
С зеленых гор сползала дымка,
сияло море отовсюду,
и чутко Леся Украинка
сквозь боль прислушивалась к чуду.
В краю, где Пушкин и Мицкевич
лучились музыкой недавней,
ее застенчивая девичь
цветком таинственным цвела в ней.
Распятая туберкулезом,
от волн ждала добра и лада
и кротко радовалась лозам
налившегося винограда.
Но, как цветы на сеновале,
у чатырдагского подножья
заброшенная сыновьями
лежала слава запорожья.
И сердце задыхалось в полночь,
рвалось на родину немую:
«Зачем зовешь меня на помощь?
Тебя ль в судьбе моей миную?
Я тем горжусь, интеллигентка,
что с детства девочкой степною
живу заветами Шевченко
и кровной близостью с тобою».
В ней пел напев, как степь, широкий,
стих возникал, певуч и четок.
В любви рождались эти строки,
и только любящий прочтет их.
Полям Волыни и Подолья
неслись в ночи ее молебны.
Во славу русского подполья
плела венок великолепный…
А мир был свеж, а жар был жесток,
и Крым был временной нирваной
для нервных ран, а самый воздух
шептал о вольности желанной.
Когда поэты занесутся
в своей провидческой замашке,
их почитают за безумцев
и запирают в каталажки.
Но Бог в душе, а не в железе.
Душа ж вотще в отчизну врыта…
За дар воздушный нашей Лесе
спасибо, южная Таврида.
<1983>
9 ЯНВАРЯ 1984 ГОДА {208} 208 9 января 1984 года. Печ. по: ВСП. С. 313. Впервые: Моск. комсомолец (кн. в газ.). — 1989. — 5 марта. Пущино с Окой. — Летом 1983 года гостили у друга Ч. — Иосифа Гольденберга в Пущино (см. «Посвящения»).
Изверясь в разуме и в быте,
осмеян дельными людьми,
я выстроил себе обитель
из созерцанья и любви.
И в ней предела нет исканьям,
но как светло и высоко!
Ее крепит армянский камень,
а стены — Пущино с Окой.
Не где-нибудь, а здесь вот, здесь вот,
порою сам того стыдясь,
никак не выберусь из детства,
не постарею отродясь.
Лечу в зеленые заречья,
где о веселье пели сны,
где так черны все наши речи
перед безмолвьем белизны.
Стою, как чарка, на пороге,
и вечность — пролеском у ног.
Друг, обопрись на эти строки,
не смертен будь, не одинок…
Гремят погибельные годы,
ветшает судебная нить…
Моей спасительной свободы
никто не хочет разделить.
ПАМЯТИ ДРУГА {209} 209 Памяти друга. Печ. по: ВСП. С. 195. Впервые: К89. С. 118. Олеша Ю. К. (1899–1960) — замечательный прозаик. Об Одиссее на Итаке. — Итака — остров в Ионическом море, родина Одиссея.
1
В чужих краях, в своей пещере,
в лесном краю, в машинном реве
с любовью думаем о Шере
Израилевиче Шарове,
об углубленье и наитье,
о тайновидце глуховатом,
кто видел зло в кровопролитье,
но шел по замети солдатом,
о жизни лешего, сгоревшей
в писательской заветной схиме
плеч о плеч с Гроссманом, с Олешей
и отлетевшими другими,
о книжнике и о бродяге,
на чьей душе кровоподтеки,
об Одиссее на Итаке
и одиночестве в итоге,
о той тоске, что, как ни кличь я,
всегда больна и безымянна,
о беззащитности величья
и обреченности обмана,
о красоте, что не крылата,
но чьей незримостью спасутся,
сокрытой в черепе Сократа,
в груди испанского безумца,
о грустной святости попоек,
о крыльях, прошумевших мимо,
и — двое нас — о вас обоих
отдельно и неразделимо,
о все же прожитой не худо,
о человеке как о чуде,
а кто не верит в это чудо,
подите с наше покочуйте.
Пока сердца не обветшали,
грустя, что видимся нечасто,
мы пьем вино своей печали
за летописца и фантаста.
К Москве протягивая руки,
в ознобе гордости и грусти
сквозь слезы думаем о друге
в своем бетонном захолустье.
2
Но лишь тогда в Начале будет Слово,
когда оно готово Богом стать, —
вот почему писателя Шарова
пришла пора, открыв, перечитать.
Он в смене зорь, одна другой румянче,
средь коротыг отмечен вышиной,
был весь точь-в-точь, как воин из Ламанчи,
печальный, добрый, мудрый и смешной.
Читать дальше