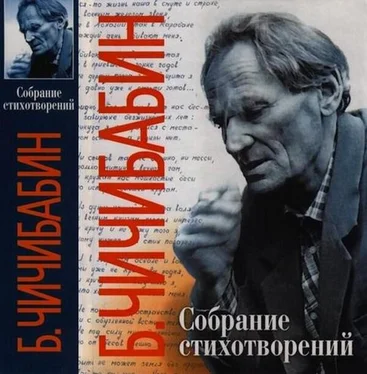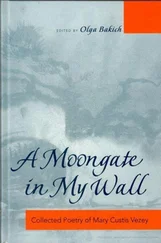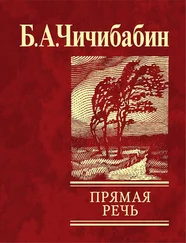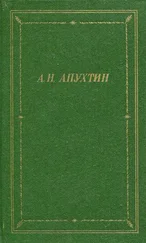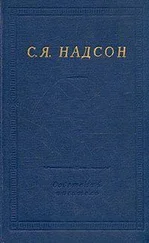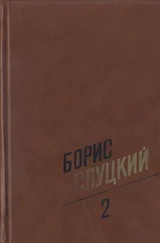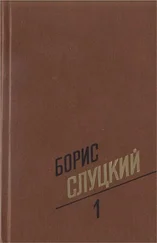По праву великим считается Линкольн,
все души горят перед ликом Толстого, —
но лирики тоже ведь шиты не лыком,
нет силы сильнее звенящего слова.
Нельзя без поэтов — а как же иначе?
Над чудом прекрасного кто б тогда замер?
Звенят над землей соловьиные ночи,
и море слагает гремящий гекзаметр.
О, жаркая кровь, исходящая горлом!
О, горечь и боль, что гармонией стали!
Есть что-то превыше законов и формул
в души человеческой остром составе.
Исчислить нельзя справедливость и нежность.
О чаша любви моей, весело пенься!
И лирика может спасти и утешить.
Нужны человечеству ласка и песня.
Не позднее 1965
Придвигайтесь, россияне,
наполняйте чаши.
Рассказать вам про сиянье
Северное наше?
Ошибусь — так вы поправьте,
двиньте под бока-то.
Жизнь у нас, сказать по правде,
цветом не богата.
Сверху — синь, а снизу — зелень.
Но скажу теперь я:
если в землю что посеем,
так и лезут перья.
Тут краса нежней и диче,
тоньше, чем на юге.
Тут не молкнут стаи птичьи
да седые вьюги.
И на той земле снежистой,
по лесам-опушкам,
не нарадовались жизни
ни Толстой, ни Пушкин…
Золоченое перо дай:
похваляться станем
над холодною природой
вспыхнувшим сияньем.
Половина неба стала
голубой, а раньше
бледным пламенем блистала,
снег лежал оранжев.
Только цвет один рекою
набежит на лица,
как спешит уже в другой он
сразу перелиться.
Ты стоишь под обаяньем,
как отроду не был.
Над тобой поюн-баяном
полыхает небо.
То лиловое лилось там,
то зеленый свет там,
и не пьяный ты, а просто
тайное изведал.
Так бывает, если снится
или сердце любит.
Не отсюдова ль жар-птица
полетела в люди?..
<1952, 1965>
* * *
Под ветром и росой {456}
и я был верен сроду
гармонии простой
и русскому народу.
Но, из конца в конец
изъездивший отчизну,
лишь Северский Донец
в душе своей оттисну.
Искал его сосков
едва из колыбели.
Там воздух был соснов,
там воды голубели.
Под сводами лесов,
надвинутых на берег,
светло его лицо,
все-все в песочках белых.
Вовек не иссыхал,
от ночи холодея
(Чугуев и Эсхар,
Змиев и Балаклея),
течением граня
кручинистые кручи
(родимые края,
вас нет на свете лучше!).
Не знаю, где засну,
но с придыхом пою хоть,
кувшинок белизну
люблю в себе баюкать.
Где б ни был я, навек
грущу по крае отчем.
Таких красивых рек
в России мало очень.
Прославлена струя
и Волги, и Дуная,
у каждого — своя,
а у меня — иная.
И сердце радо несть
красу его большую,
и слово про Донец
по-своему сложу я.
Не позднее 1965
* * *
Я слыл по селам добрым малым {457} ,
меня не трогала молва, —
но я не верил жирным мальвам,
их плоти розовой не рвал.
Она, как жар, цвела за тыном,
и мне мерещились уже
над каждым шорохом интимным
свиные раструбы ушей.
Над стоном стад, над тенью улиц,
над перепелками в овсе
цветы на цыпочках тянулись,
как бы шпионили за всем.
Они подслушивали мысли
и — сокрушители крамол —
из-за плетней высоких висли,
чтоб смех за хатами примолк.
От них несло крутыми щами.
Им в хлев похряпать хорошо б.
Хрустели, хрюкали, трещали
и были хроникой трущоб.
Людские шепоты и вопли,
бессонница и полумгла
в их вязкой зависти утопли,
им долговязость помогла.
И мальвы кровью наливались,
их малевали на холстах,
но в их внушительность, в их алость
не верил ни один простак.
Цветочки были хищной масти,
на тонких ножках, тяжелы,
они ломались от ненастий
и задыхались от жары.
А в лютый час полдневных марев
у палисадников, у хат
что выкомаривали мальвы,
как рассыпались наугад!
Их бархат был тяжел и огнен,
ему дивился баламут.
А мы под окнами подохнем
и нас на свалку сволокут.
Не позднее 1965
* * *
Я не слышал рейнской Лорелеи {458}
и не видел волжских Жигулей.
Белые кувшинки Балаклеи
мне родней и потому милей.
В тех краях, в селе Гусаровке,
ради шумной жизни, ради ласк,
та, с кем я скитался, взявшись за руки,
в самой бедной хате родилась.
Читать дальше