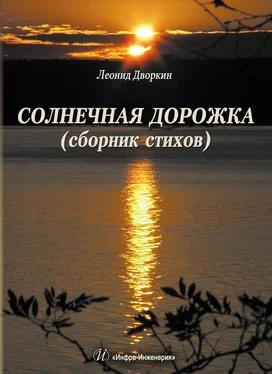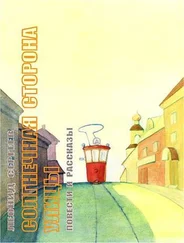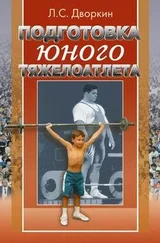Сибирь, январские метели,
наш первый дом, кроватка малыша.
Меня теплом незримым грели
твоя любовь, твоя душа.
Мне не страшна была работа,
работал, не жалея сил,
мне помогала лишь твоя забота,
ее я не всегда ценил.
Судьба, увы, была жестока,
и черной часто была ночь…
С гранита смотрит одиноко
для нас всегда живая дочь.
И пусть остры болезни стрелы,
с "косою" просьба не спешить!
Хочу букет ромашек белых
тебе, родная, подарить.
Люблю я запах скошенной травы
Люблю я запах скошенной травы,
дымок костра у голубой опушки
и трепет на ветру березовой листвы
и ивовый шатер над тихою речушкой.
С ее водой я в юность уплываю
и чищу душу я ее водой,
надеюсь, верю и мечтаю
и забываю, что, увы, немолодой.
Что годы-тучки уплывают,
что жизнь как речка коротка…
Я понял здесь и твердо знаю,
что лучший лекарь мой-река.
А ивы– сестры милосердья,
вот только плачут много они зря.
Шумят сегодня чайки так усердно,
о чем-то важном, словно, говоря.
Мадонна, опаленная войной
В июне Беларусь прекрасна,
благоухает край лесной.
В тот день закат багрово-красный
стоял над тихою рекой.
Спала районная больница,
малыш ворочался во сне.
В четыре ночи вспыхнула зарница,
стекло посыпалось в окне.
Над лесом зарево стояло,
зажглась тревожная звезда.
Мать малыша к себе прижала
и поняла – пришла беда.
Война – все глуше это слово,
все дальше отблески огня.
Глаза закрою я и снова,
они до боли жгут меня.
Орда, как туча, наплывала,
недобрых ждали все вестей.
Отец сказал, мать вспоминала:
– Ты уезжай, спасай детей.
Прощай, жена, живи с надеждой,
придет он наш заветный срок.
Бери детей и узелок с одеждой,
полуторка вот едет на Восток.
И политрук склонился к сыну:
– Ну что ж, сынок, большим расти.
Шоферу крикнул: – Не тяни резину.
Прошу, браток, не подведи.
Соленым был тот поцелуй последний,
прощальный крик застрял в груди,
и, горьким был тот вечер летний,
неведомое ждало впереди.
Полуторка сначала заурчала,
потом рванула, не жалея сил,
и долго мать рукой махала,
клубилась за машиной пыль.
Мы ехали навстречу грозам,
от вспышек бомб алел закат.
Шофер был просто виртуозом,
для пассажиров ценный клад.
Как мог он обходил ухабы,
носил и хлеб и кипяток,
лечил больных, поддерживая слабых
и путь держал лишь на Восток.
Полуторка дошла до Брянска,
а в Брянске треснул коленвал.
Шофер ворчал, «Кобыла панска»,
людей доставил на вокзал.
В переполненном вагоне,
где разместился, кто как мог,
где вперемешку смех и стоны,
мы ехали все дальше на Восток.
А ночью грянула бомбежка
и осветила будто днем,
светиться стали даже крошки,
вагон наш занялся огнем.
Нам повезло, живы остались
и мессеры продолжили полет,
а утром снова все собрались
и поезд наш ушел вперед.
Степь оренбургская встречала
настоем крепким ковыля.
Нам, как могли, здесь помогали,
чтоб жизнь не началась с нуля.
Я помню ветхую времянку
бесплатно дали казаки,
лохмотья, старую лежанку,
что любит только кизяки.
Я помню ветры и метели,
в фуфайке длинной я иду…
Изголодавшись часто ели
очистки от картошки, лебеду.
Трудилась мать и в зной и в стужу.
За труд – колхозный трудодень.
Надежда только грела душу,
ждала она заветный день.
Ждала все время беззаветно
желанный от него сигнал.
Письмо пришло под вечер летний.
На бланке – "без вести пропал".
И сжалась грудь тревожно, больно,
комок подкрался к горлу, там застыв.
Надежда слабая теплела осторожно.
– Не верю. Жив он, жив.
А утром на работу рано,
и так три года, каждый день…
мы ждали голос Левитана,
названия свободных деревень.
И день пришел. Нас провожали.
Родным нам стал колхоз степной.
Крестьяне, что могли собрали.
Ура! Мы ехали домой.
Читать дальше