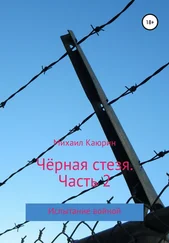В небе холодном Большая Медведица бродит,
Иль Сатана насылает большие морозы?
Печь остывает. И пятый десяток доходит,
Как я живу. А в душе еще детские грезы.
Вынесу птицам я крошки от трапезы скудной,
Клюй, мой снегирь, и будите зарю, свиристели!
Трудно вам, милые, нынче и людям паскудно...
Правды хотели? Да все ли до правды созрели?
Мозг затуманен не столько смурной бормотухой,
Сколько трущобною лжедемократской баландой.
Недруги действуют, рушат фундаменты духа,
Скроенной тонко в чужом ателье пропагандой.
Глянешь окрест и душа замирает от боли:
Кто-то жирует, а кто-то латает заплаты.
Милый снегирь, полетели хоть в Арктику, что ли,
Может быть, там не дотянутся к нам «демократы».
1992
Орут. Орать они умеют.
Послушать – яд и белена:
«Коалы русские...»
И млеют, за это платит Сатана.
Желта их пресса. Лгут в истоме,
Играют походя с огнем.
Их принимают в «белом доме»,
Полно двурушников и в нем.
Когда глухой народный ропот
Перерастет в разящий суд,
Их не Америка с Европой,
А те же русские спасут.
1992
Базар ли, рынок ли... Иду
В своем раздумии унылом:
Как в восемнадцатом году,
Торгуют спичками и мылом.
С медалью жалкий инвалид,
А рядом бабка притулилась.
И всякий выжить норовит.
А для чего, скажи на милость?
Сияют лавки да ларьки –
Кавказской мафии раздолье,
И пьют, отчаясь, мужики,
Отвыкли браться за дреколье.
Я тоже душу волочу,
Ее так долго убивали,
И ты не хлопай по плечу.
Не трать калорий, генацвале.
Замолкни, стих! Душа, замри!
На мир глаза бы не глядели.
А глянешь – ухари, хмыри
Да злые девки на панели...
1992
Не создали обещанный рай,
А облаяли русского Ваню.
Мужику – хоть ложись, помирай,
Он же строит по белому баню.
То ль чудит? Т о ль свихнулся сосед?
Но топорик наточен, как надо.
Тук да тук – раздается, чуть свет,
На краю мирового распада.
На пороге грядущей грозы,
Инквизиторских новых жаровен,
Ладно рубит венцы и пазы
Из подручных осиновых бревен.
На снегу зеленеет кора,
Как предвестница майской полянки.
Светел Ваня в пространстве двора,
Ни до бабы ему, ни до пьянки.
И в окрестности рощ и полей
Как-то легче становится сразу.
Да и черных он тех кобелей
Называет пристойно: «заразы»!
Лишь на свежие раны соля,
Он невесело шутит меж делом:
«Одного да потом кобеля
Я отмою и сделаю белым».
1992
В гостях у русских эмигрантов
«Как там у нас?» – меня спросили.
И я подумал тот момент:
Для новой «ельцинской России»
Я тоже «чуждый элемент».
Сносил хулу и от марксистов,
Теперь я вовсе – «быдло», «сброд»,
По недосмотру ельцинистов
Еще не пущенный в расход.
Но Бог судья им... Бесконечно
Течет, как речка в берегах,
Наш разговор другой – сердечный
О русских далях, о снегах,
О колокольчиках Валдая,
О вьюжных посвистах в ночи.
Вот раскричались попугаи,
А мне почудилось – грачи.
Взглянул на книги – Блок и Пушкин,
Сергей Есенин – для души.
А вон, под пальмами, церквушка,
Что возводили на гроши.
И хорошо. И встрече рады.
Еще не вечер, не итог!
И кровь взбодряет, как и надо,
Венесуэльский кофеек.
И будет день – за все заплатят
Все эти бесы и ворье...
Кивают Аннушка и Катя,
У них ведь женское чутье.
1992
Ем бананы, валяюсь на пляже
В первый раз за трагический век.
Никакого здесь нет эпатажа,
Как нормальный живу человек.
Все стабильно: ни путча, ни рынка,
Ни пустых политических ляс.
Час-два лету до Санто-Доминго,
Двести верст и – в огнях Каракас.
По соседству фламинго гнездится,
Дозревает кокосовый сок.
Поселиться бы здесь, позабыться,
Позарыть даже память в песок.
Что еще романтичней и краше:
Затеряться вот так, запропасть,
Коль в Отечестве нашем – не наша,
Продувная, продажная власть.
В человеческом счастье иль горе
Не бывает дороги прямой.
Над лагуной Карибского моря
Взвешу все и... уеду домой.
А приснится мне птица фламинго
И нектаром кокос налитой,
Вспомню остров и Санто-Доминго,
Как негаданный сон золотой.
1992
Разбитная старушка, с ней внучка иль дочь,
В ожидании рейса калякаем.
Революцией пахнет гаванская ночь,
Керосином и всячиной всякою.
Читать дальше
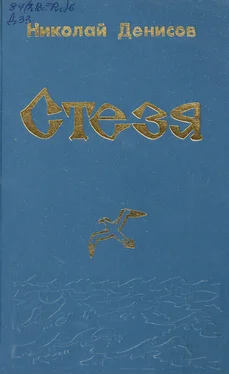




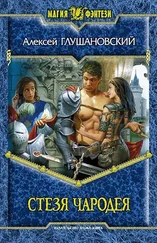
![Евгений Красницкий - Отрок. Ближний круг - Ближний круг. Стезя и место. Богам – божье, людям – людское [сборник litres]](/books/409214/evgenij-krasnickij-otrok-blizhnij-krug-blizhnij-kr-thumb.webp)