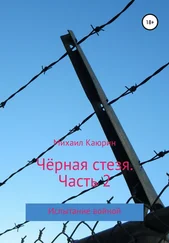Я ретируюсь виновато
Поближе к трапу корабля.
Лежат на утлых кранцах львята,
Во сне усами шевеля.
Сомкнули львиные объятья,
Как на лужайке, на траве.
И я свидетель: меньших братьев
Никто не бьет по голове.
1988
Нудный дождик с ночи мочит,
Робкий вылизал снежок.
Но кричит задорно кочет –
Местный Петя-петушок.
Он и здесь поет, ликует,
Хорошо ведет канву.
И, как слышно, не тоскует
В иностранном во хлеву.
Я гляжу: как будто в кадре,
Аргентинская зима,
Городок Пуэрто-Мадрин –
Церковь, кладбище, дома.
В дополнение картины,
Вдоль прибрежной полосы,
Важно шествуют пингвины,
Держат по ветру носы.
Сядут чинно, лапы греют,
На залив глаза кося,
Словно тайною владеют.
Что рассказывать нельзя.
1988
У Кабо-Верде выло, дуло.
И волны шли – стена, редут.
И, как назло, сошлись акулы,
Кружат у борта, крови ждут.
Какой уж час грозят над бездной,
Пророча гибель кораблю.
И я – попался прут железный! –
Грожу им: наглость не терплю!
Вы зря, кричу, меня следите,
Напрасно вяжетесь ко мне.
Плывите, дома посидите –
В своей разбойной глубине!
Но ходят волосы под кепкой,
Когда блеснет средь волн и скал,
Как двух борон зубастых сцепка,
Акулий дьявольский оскал.
1988
За рейс постареет не только металл,
Усталым и грустным вернусь я на сушу.
Вот только что в полдень прошли Сенегал,
И – странно! – событье не тронуло душу.
Космичность эмоций, объемлющий взгляд,
Потери крупней и глобальней фортуна.
Эфир сообщил, что бомбили Багдад,
Нам тоже досталось вчера от Нептуна.
Что светит нам дальше: удача, тщета?
Не знаю... Пока лишь шнурую ботинки.
Иду на корму и сдираю с борта
Обычную ржавчину – пневмомашинкой.
1988
Наутро пришли мы в Израиль,
Как боцман сказал, в Израиль.
Встречал нас на пристани Авель
С чернявою дочкой Рахиль.
Они предложили товары.
И хоть я торги не терплю,
Пощупал «колеса» и «шкары» [9] Колеса, шкары (жарг.) ботинки, брюки
,
И буркнул:
– В Стамбуле куплю!
Зачем мне исламские четки
И этот синайский инжир?
Пойди, загони свои шмотки
Угрюмым арабам – в Каир!
– Ты шибко-то, паря, не лайся,
Ответил мне Авель, любя, –
Ты лучше у нас оставайся,
Я дочку отдам за тебя...
Ах, дочка! Картина в Манеже!
Тут меча на Яхве грешить...
– Скажи, и меня здесь... обрежут?
А как с ней, обрезанным, жить?
– Живут же... Подумаешь, барин!
Торгаш усмехнулся едва. –
Вон Молотов жил и Бухарин,
И Киров – генсек номер два...
И тут я припомнил, как в споре,
Желая уесть помудрей,
Мне бросил Галязимов Боря [10] Галязимов Боря – местный журналист
,
Что я «окуневский еврей».
Ах, Боря, я видывал дива.
Что мне ярлыки и хула!
Сюда бы, под сень Тель-Авива,
Твои золотые слова.
Девчонка-то вправду – картина,
С такой бы по яблочки в сад!..
Да нас не поймет Палестина
И лучший наш друг Арафат...
И грустно, и мысли все те же
В мозгу воспаленном толку:
«Вот так согласись и – обрежут,
А я еще в самом соку!»
– Бывайте...
И за полдень вскоре,
От избранной богом земли,
Ушли мы в Эгейское море.
Винтами свой путь замели.
Как всюду, за милею миля.
За дымкою скрылся причал.
Ну, ладно, водички попили,
Побаяли по мелочам.
1989
Клочья пены срываются с мокрых тамбучин,
Будто шторму подкинули в топку дровец.
Сквозняками Ла-Манша простужены тучи,
В зябком Северном море идет бусенец.
Вот и все – началась европейская тема:
Дует ветер химический с Эльбы-реки,
Ждет нас Кильский канал, ждет причал Флиссингена,
В эмигрантских лавчонках нас ждут маклаки.
Это те, что давно в свои тайные ложи
Пронесли робеспьеров кровавый топор,
И в семнадцатом, вырядясь в черную кожу,
Развязали безжалостно красный террор.
Это с тех похорон еще – пышности царской,
На костях и на бедных крестьянских гробах,
Возвеличен был ими портной Володарский,
Накроивший смирительных тесных рубах.
И когда в них вели нас на скорбную плаху,
Низводили до нищенской скудной сумы,
Верховодил все тот же кагал авербахов –
На Лубянке, в управах глухой Колымы.
Читать дальше
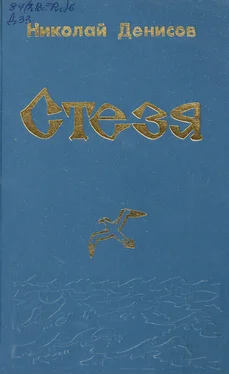




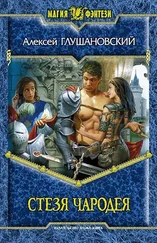
![Евгений Красницкий - Отрок. Ближний круг - Ближний круг. Стезя и место. Богам – божье, людям – людское [сборник litres]](/books/409214/evgenij-krasnickij-otrok-blizhnij-krug-blizhnij-kr-thumb.webp)