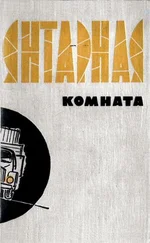Снег скрипит, пародируя лето гитар и воплей,
выкриков строчек, шёпотов их во мрак
Зима пришла, и её бледный пожар растопит
ледник, которому я был немного рад.
«Не маслом картина, но холст оплеванный»
Не маслом картина, но холст оплеванный:
щупаешь паспорт, а нет карманов,
да и пальто – на одном из тех клёнов
повисло, ликуя свободой нрава.
Бесправный, раздетый среди пространства,
измученный страстью чужого воя,
так и не можешь понять: за паспорт
цепляешься, или за что-то иное?…
«Собака плакала. Эй, видишь, божик, слёзы?»
Собака плакала. Эй, видишь, божик, слёзы?
За все страдания ей полагается не Рай,
но её грезы. Её собственные грезы —
о вечном бытие с хозяином… Вставай! – и
Прими халат рабочий —
Красный!
Любимый цвет невнятных богоборцев —
и сколоти,
из ласки и любви, отсутствья ночи
ты ей и человека…
и, пожалуй,
солнце,
что разит зелёный мир прелестным серым светом.
Чтоб было, будто б в жизни…
Только вечно!
Эй, б…!
Бог… прости меня…
да… Я пришёл с советом…
единственным советом
человечным.
Мне наплевать на то, что мир несправедлив,
что в нем и бьют,
и грабят,
и колотят,
и насилуют, и рубят,
и, побив,
вонзают лживые понятья о свободе.
Мне наплевать на все, и, может, большинство из
всех. Да только дай надежду, что собака, —
которая грустит, как должен бы, по сути, человек
грустить,
в отсутствие любимых скорбно воет, —
Получит Рай.
Получит собственный кусок
прекрасного – на том, на Белом свете.
И чтобы там я повидаться с ней вдруг смог,
обнять… и поскулить с ней вместе.
Мое детство осталось в земле, и сверху песком присыпано,
у леса, который, бывало, я так ненавидел,
Под ёлкою, выросшей здесь просто так, для вида, а
Рядом – дорога, на которой навеки остался бы, сидя
Смотреть на прощальный песок. Здесь – все.
Все тени всех мыслей и чувств, десятилетьем хранимых,
Игры и книги, купанья, прогулки… И все – песок.
Все – подставленных жизни рук будто б мимо.
Жизни и смерти мир проклят давно круговертью.
И говорит нам обыденность сотен лет, что смириться – сила.
Но вы, старики и младенцы, смиряетесь с смертью
Лишь потому что сами вы – полуживы.
Я смотрел на золото церкви и видел в нём
не то чтобы золото всей вселенной, но какой-то его огонек.
Какое-то пламя, ради которого все зарождалось,
из пещер – к небесам пустынь необъятного чёрного хаоса.
Я, столь привыкший смотреть на крест, узрел вдруг купол,
не замыслы Бога в нем прочитав, но почерк его архитектора,
его отлитую в злате судьбу: удел быть другом
мне, взгляду и взглядам моим став вектором.
Я прозрел, вспоминая о всяком мёртвом – ещё живом.
В этом золоте – жизни их; тень неба – берёзы над их могилами.
Роясь химией сердца в памяти, глазами луч света выловив,
«помолился» – просто чтобы спокойней тому, что мертво
было… Но упокоенным к черту не сдался покой.
Было б не наплевать им, покуда они были б живы.
А так – утешать себя, что они тебя ждут, что все так легко,
что помнят тебя, попивая с ангелом чай… – лживо.
Я смотрел на купола крест золотой, и видел в нем
не то чтобы все, что давно прошло – а лишь жалкий его огонек.
Да, упокоенным к черту покой не сдался.
И это злато лишь напоминает мне мрак необъятного хаоса.
«Та весна была грязною, а этой быть золотистою»
Та весна была грязною, а этой быть золотистою —
ибо, возможно, мертвых уж райские залы стиснули,
а нам остается, брошенным, ворочаться в этом омуте,
души меняя на брошки, отлитые в грязном золоте.
Эта весна – златая, по крови и по иконе, и
по степени, как сгнивает то, чего мы так и не поняли;
по тому, как корявый купол, литый, как те же брошки,
становится лучше люда (на вид – только междуножья).
Пейте в прогнивших барах – мне ж, почему-то, тошно,
бейте в стекло телефона, как любите быть безбожными.
Это ли атеизм? – Нет, Маяковский плюнул бы,
хоть сам он и не был истинным… но истинней вашей Юрмалы.
Золото этой весны покажет, где позолота, где
краска скрывает сажу, и небо, золой истлев,
посыпется прахом в руки. Я их подставлю. Вы?
Плевали вы в это небо… к возврату плевка привыкнув.
Читать дальше