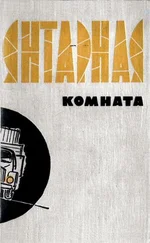услада после этой «чёрной, проклятой страны».
Пора уехать в Турцию, – пора, пора, пора!
Тьфу на твою могилу, погибший лётчик, и
тьфу на все могилы. Мне надобно орать,
орать о своём счастии, орать всем о свободе,
ведь в рабской свастике тоталитарных нужд —
стране, где власть совсем забыла о народе! —
я, свободный человек, наверно, всё же, чужд.
Эх, время насладиться жизнью. Путь к усладам начат.
В стране нет денег; как же я отсутствие их трачу?…
И волен ехать в «стан врага», к предателю на отдых…
Так почему моя страна – «страна раба»?…
Так модно говорить; так модно думать, жить —
с пародией на нравы, на мораль, на мысли, чувства.
И если быть пародией – то всяк не русским быть.
Езжайте в Турцию. Ваш отдых – чхать на русское.
«Пока мы спим – гремит в одной стране переворот»
Пока мы спим – гремит в одной стране переворот,
в другой стране воюют год который,
а в собственной – и свет и грязь, который год,
а мир – сам от себя укрыт за шторы.
Пластмассы вал выносит океан,
за ним картонный мир несётся с нашим миром
столкнуться, чтоб, разбившись вдребезги, обман
раскрыть – предсмертною, последнею… сатирой,
шуткой, анекдотом. Пока мы спим – грохочет автомат,
льют кровь, бегут, шипят последние слова,
и на коленях плачут у остовов – по разрушенным домам,
по душам сломанным, да и по факту слома.
Нам красный приговор завещан небом – всем,
от самых дальних стран, до самых ближних к нашей,
и нашей, к сожаленью, тоже… лишь затем
мы родились, чтоб строки оправданья были краше,
чтобы судья в кромешной пустоте читал с улыбкой
приговор, а шапки офицерской он (с звездою)
не счёл коснуться на прощание ошибкой.
Пока мы спим – стремится в небо море,
а небо – в нашу землю. Грешную, от дальних стран
до самых ближних к нашей. Пока мы спим, и спим, и спим, и спим,
во всех краях земли гремит последний огненный обман.
Спасет ли все края земли последний, Третий Рим?
Я смотрю на проклятые желтые листья,
и вижу жизнь. Нет, не вижу жизни.
Тоскую по жизни, по свету выси,
солнца лучу, что безмолвно рыскал
по бетонному миру, по крикам, пискам,
по моим онемевшим мыслям.
Я смотрю, и не вижу смысла.
Я тоскую по мрачной дали, прошлому,
что унеслось, как дали возможность,
словно сбросив с себя свою ношу…
Слишком стАро я мыслю, может?
В бочонке жизни смертей – лишь ложка,
столь огромна в своей ничтожности,
и извлечь ее можно… можно ли?
Нет, нельзя. Осень в бочке лет —
тоже ничтожна. Но свет – померк.
И злато листьев – не лги, что свет.
Ты станешь светом лишь в голове,
может быть, кровью в турбинах вен,
может быть, тысяча счастья лье —
но тебя скоро сменит снег.
И весь заметёт пургой. Весь мир,
населенный сквозь тысячи лет людьми,
привыкший, назло самому себе, к ним,
как привыкает к распятому – крик.
И как распятый к кресту привык.
Так, рано иль поздно, осень, ты,
привыкнешь ко мне и другим – на «Вы».
Мы скуём тебя, и помрёт тоска —
мы даже смерть сожмём в кулаках!
И золото, лгавшее всем, навсегда
мы сменим на то, что любой искал
по дорогам, в сёлах и городах.
Я пишу, и грустной улыбки прах
вытесняет оскал: я снова прав.
Снег скрипит, пародируя лето качель и танцев,
ныне громких лишь в четырёх стенах,
где ты, как и снаружи – ничей, и податься —
некуда более, чем в берлогу, к снам,
да в норку, сторожить тепло в себе,
бегать мыслью по потолку, белее неба,
которое мыслью мы так милосердно бросили,
взяв поговорку «свинец на нервы»
замест «соль на раны», да только толку-то?
Ни стихи, ни песни не помогут душеньке.
Мы лихие бездне грозить зловещим шёпотом,
а наедине с ней себя лишь рушим мы,
превращая из в чём-то красивых статуй,
оснащённых тремя-четырьмя механизмами,
себя в жалкую надпись, визгливую дату,
кою нянчить берёзам и ёлкам в изморозь,
изморозь и буран, местные штиль и шторм.
Визгами сделать прах наделённым смыслом,
видимо, недостаточно. Так что не жди укор,
посланный в виде весны зиме беззвёздной высью,
а просто возьми микрофон, привезённый с али-
экспресс, открой окно, и холоду в такт прочти,
некую помесь реалистичных легенд, былин
и песен. Не зря же зима пришла твой храм почтить.
Читать дальше