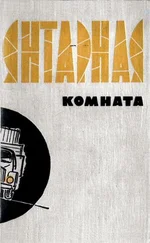Государь! мне пришло письмо.
В нем пишут, что вы – и тварь, и сволочь,
и сверкающих глаз стекло
обещает вас свергнуть в полночь,
судную полночь. Государь! судный день —
вдалеке. Рассудить человека – рано. Люду
позволено все говорить. Это затмение —
рваная рана. Солнце исчезло повсюду,
и только луна прельщает безумством. Каждый
вдруг вбил себе в голову, что он не каждый,
привил голоску своему и важность,
и горечь, и крик, позабыв, что слаженней
работает схожесть частей, а не их
обратность самим себе. Государь!
вы – политик. С буквы большой – Вам,
по причине этой, чужда всякая божья тварь
с любовью их к дамам, любовью к домам.
Вы – лидер. Руки, по воле судьбы предводителя,
красным флагом обернуты, в первую очередь,
ваши. И вам его – то ли не скинуть, а то ли вы свыклись,
дочерна выкрасив сердце и добела – проповедь,
но это уже неважно. Государь! письмо ожидает
ответа – незамедлительного. Я ваш придворный поэт, потому,
облекая рифмой и элегантностью смысла, сжигаю
ваши другие ответы такому письму.
Не поймите неправильно, о, Государь! вы умны,
вы правы, и скажете правильно все, да только
ваш ответ – лишь на суд их ухмылки, ведь розовы сны
тех, кто пишут Вождю про проеденный молью
оплот человечьих свобод, али нрав политических игр. Они,
погрузившись в свои мирки, меж идиллий сверша
путешествия, не понимают ни мира сего вообще, ни
того, как ужасно корява мучеников душа. Не спеша,
они пишут и пишут. Судят и судят. Судят и пишут про что-то,
что выше их; значит, естественно, все контролирует!
Нет! – срываюсь ответом на их бредятину, бью себя по лбу блокнотом,
словами, в надежде пропустить мат, жонглирую,
и пускаю их дальше. Мой Вождь!
мне противно их слушать, хотя даже им
не пожелал бы я смерти, ибо
жалко слышать их выкрики; жалко другим, —
их мамам, к примеру, – захлопывать эту книгу
человеческой жизни. Жизни родной, пусть и глупой;
жизни, не стоящей ничего, но стоящей… в общем смысле.
Эта жизнь прогудит песнопенье в испорченный рупор,
и вдруг – изыди!… и пёс черно-белый рыщет, рыщет…
Государь! я против войны, вы знаете. Так же, я против
крови, крови любой, даже крови врага. Но в условиях
обороны, история нас, призраков, заключённых в сем мире плотью,
толкает лить кровь. К сожалению – ради новой крови.
Государь… в условиях этой войны, чей холод
прожег в моём сердце ребячьем не то чтоб дыру, но целый космос,
заявляю вам: буду служить вам, пока исколот
не буду мечами – сталью, или какой-то любовной оспой,
ибо лучше вас, Государь, не придумать стране, да и миру, —
в громады пластмассы нырнувшего вниз головою, зная
что дно, острое дно, близко, что многие дыры
в твоей голове – это очень надолго. Государь, я
даю из рук в руки вам это письмо. Это – уже моё.
вы, поднимаясь со стула, жмете мне руку. А мне
становится вдруг противно, от осознания, что всё,
чего мы достигнем с вами, сгорит в огне. Или нет?…
Не зная, куда, я еду, ударив коней
со злобой – не зная, зачем она
нужна, эта злоба, мне.
И скачут кони, не зная, куда,
по звёздам, звёздам, и ещё раз
звёздам, пока у дорог разбитых
собирают люди к огням своим хворост —
не зная, к каким кострам нести их.
И вдалеке, за пылью, песками,
отрядами полуживых лесов,
за солнцем, спрятанным между нами —
целью и стуком копыт о лицо
земли… Вдалеке – то ли храм, то ли церковь,
то ли Сталинская высотка,
и свет в ней, – красивой, – как будто бы меркнет,
свет в ней – как будто бы соткан