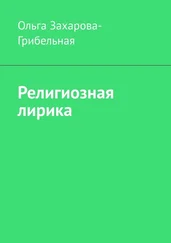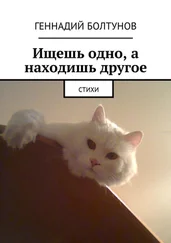Нет, я не поддаюсь хандре осенней,
несу свой крест. Надеюсь на спасенье.
Возвращение на круги,
круги вечные своя,
через лес, поля, да вьюги
по границам бытия.
Мимо женщины манящей,
мимо… Взгляд не потерять.
Еду к маме, повторять
весело и леденяще.
Повторять, не ждать прощенья
за скитания свои.
На орбитах возвращенья
слишком плотные слои.
Возвращаемся, сгорая,
излучая звёздный свет.
Сами, в сущности, не зная,
долго ли ещё до края,
или края вовсе нет.
Когда душа покинет тело, —
она найдёт куда вселиться:
в котёнка ли, в кусочек мела,
в растение, в сороку-птицу…
И в то, чего при жизни гложет,
душа вселиться тоже может.
Ты шёл по жизни? – Был прохожим.
Не шёлков путь был (предположим),
хотя хотелось, чтобы мёд…
Душа не глупая, поймёт.
Дорогой станет, будет виться,
не зная, где остановиться,
продлится без конца и края.
Вдаль, к горизонту, убегая…
Читать нам жизнь приходится с листа.
Своих страниц перелопатил груду:
полно длиннот, есть общие места,
но всюду свет, точнее – тьма не всюду.
Мостик от вокзала через ров,
я во рву и мой велосипед.
Я реву, а люди без голов
тянутся на красный лунный свет.
Светофоров в том краю не счесть,
то есть, нет их вовсе. Это есть.
Я реву, размазывая грязь,
чтобы вновь наладить с детством связь,
не имея связи никакой
с местом, что за вечною рекой.
Преобразился белый свет,
ему вернули первозданность,
где не чеканили монет
и впрок не собирали данных.
Где нет ни поездов, ни рельс,
однако шпалам в тучах тесно,
когда задуман первый рейс
на шарик наш из сфер небесных,
из райских кущ, и путь назад
проложен, сквозь житейский ад.
А рядом теплилась отрада
преодоления распада,
когда на этот белый свет
сойдёт иной, какого нет.
Она жила во все тысячелетия.
Но после пошатнувшихся небес
ослепла, видя, как родные дети
пошли вразнос, кто по дрова, кто в лес.
Кровиночки ведь, а вели скотинно,
забыли словно: каждый – человек…
Брат брата метил ножичком по спинам
и бельмами сверкали из-под век.
За церковною оградой
жгут костёр. – Так богу надо.
Пусть возносится над ним
поднебесный сирый дым.
Сирый дым, отнюдь не серый,
как его не пожалеть,
если весь пропитан верой,
позолоченной на треть.
В этой Вселенной вновь выхода нет,
но есть переход в иную,
где корридорит, тоннелится свет,
где, проездной проверяя билет,
пакуют и штемпелюют.
Предощущая, что мне предстоит,
и вероятно скоро,
прячу гордыню, обиды и стыд
от кредиторов.
И начинаю вживаться в роль
с названием – бандероль.
При зубках незалеченных
не лезет в рот еда,
но рвать их опрометчиво
не надо, господа.
Казалось бы чего мельчить,
когда с уколом нет проблем.
Но, ты не пробовал лечить?
А ты не спрашивал – зачем?
И для моей родной страны
есть у других давно мечта,
больны ли зубы, ни больны,
изъять скорее изо рта.
Но в обществе замечено,
а наш народ, он лих:
жевать-то на залеченных
вкусней, чем на вставных.
С империи развалом,
дурея от свобод,
мы дали коновалам
залезть щипцами в рот.
От их уколов новых
сидели, будто в дым,
проспали зуб здоровый,
зуб мудрости, зуб – Крым.
Прошла анестезия,
глядь, мы в стране иной,
но звать её – Россия!
Зачем ей зуб вставной?
До Крыма присмотрелись,
а корень-то здоров.
Назад вживили, прелесть,
без пришлых докторов.
Теперь мы снова можем
зубами поблестеть.
Кого и что там гложет
не наше дело ведь.
Ёлки зелёные да голубые,
и чередуются через одну.
Кто и не помню, душу всю выел,
переменив проживанья страну,
не прибегая к переселению,
только чужой затащив капитал,
для воспитания нью-поколения,
гибнуть готового за драгметалл.
Перепоясались разными грантами —
вот и достигли «благих» перемен.
Часть населения став эмигрантами
с места не сдвинулась, сданная в плен
бывшим республикам
бывшей империи.
Поздно вослед голосить про потери нам.
Читать дальше