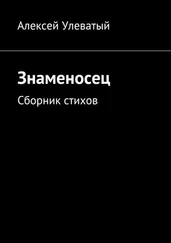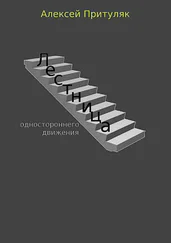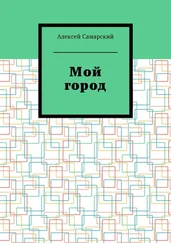Всё неминуемо канет в вечность.
Всё позабудется.
Бесчеловечно
жаждать мутации гласа веры
в мире, где звуки так липки, серы…
Мальчики пели в церковном хоре.
К вере причастность ловя во вторе
эха под сводом…
1
Детство, двор-колодец, северный оскал
неба хмурого над ленинградской жизнью.
Дворник дядя Ваня, – это твой причал,
чуть рассвет в окне, а ты уж рисовал
чистоту метлой по камням, точно кистью.
2
Кто удержит неуемного птенца,
как шаги утихнут утром на работу
мамы ласковой и строгого отца?
Мигом сдунет озорного сорванца
в коммуналке душно-нищей несвободы.
3
Во дворе без солнца, будто на посту,
нас встречал с обыденной в губах усмешкой
дядя Ваня. Аккуратно под метлу
сор сгребал он, вглядываясь там, в углу,
в жизнь дворовую, где был он просто пешкой.
4
Но судьба готовила свой страшный ход:
крик раздался как-то на рассвете раннем
с чердака, где чёрный дядиванин кот
терся преданно у висельника ног
в вое дворничихи, жутком и прощальном…
5
Ваня, боль твоя, как жизнь вошла в петлю…
Из войны, подлюги, боль, – гласила справка… —
Миллионы безответных «почему»
и сегодня, падая в глухую мглу,
давят, вопрошая, как твоя удавка…
6
…Двор всё тот же, и обшарпан, как тогда,
но помельче, вроде, погрязнее стало…
Чудится, как тянет что-то из угла, —
точно, боль сердечная, иль от ума…
то, что время изначально заметало?
7
Кто же ныне «дядя Ваня» во дворе?
Кто «из пешек» подметает камни в вечность? —
Те же люди бродят, жмурясь, по заре…
Так же тесно, но привычно плыть в толпе
под клочками неба в дождь и неизбежность…
В аквариуме поезда всегда
живу подохшей рыбой – кверху брюхом,
в глазах напротив скуки пустота,
замаринованная мерным стуком…
В любимый город еду – Ленинград,
чтоб утонуть на Невском в захолустье…
чтобы Михайловский (английский сад)
листвой накрыл меня в аллее грусти…
Спрессованная жизнь летит к концу,
её разгон опасен виражами.
И хлещут тени в окна по лицу
забытыми из детства миражами.
Откройся дверь в несказанное слово,
разбей бокал дрожащая рука, —
сегодня я во власти дорогого
изысканного красного вина.
Улыбок сон, и похотливый шёпот,
изнеженный телесный аромат,
и страсти вожделенный ропот
настроят на сознанья полумрак,
где на пути руки в одеждах шёлка
раскроется настроенная плоть,
где кровь клокочет волнами настолько,
сколь можно в жилах по вискам колоть…
В заснеженном пространстве Ленинграда
я Петербург безвременья отпил, —
блаженство в г о рячи земного ада,
холодный рай, беспечный, как тротил.
Убийца-чай на нет свел шумный спор…
Мы распрощались как-то неумело,
но лужи отражали разговор,
косыми брызгами кусая тело.
По городу натоптаны круги,
где в сумраке сопровождают тени,
пути из прошлого привычно нелегки. —
В созвездьях петербургских настроений
в безвыходность замкнулись, как всегда…
В беспомощность, глядящего спросонья
на город, где привычная среда
волшебна столь,
сколь вредна для здоровья…
Четверг не заступил. И вкус застолья
бродил в ночи…
Но кончилась среда.
Исаакиевский собор в тумане
Был утренний туман
густой и влажный,
в нём прятал великан
свой облик страшный.
Лишь контуры видны,
подходишь ближе, —
плывут из глубины
порталы, крыши.
Колонн ритмичный ряд
вверху дым растворяет
в причудливый наряд
неведомого края.
Но тает в вышине…
Парит там колоннада,
мерцанье, блеск в огне,
горит туман от злата!..
Торопят дни, года, —
всё жизнь пустая.
Находим, – что, когда?..
Кого теряя.
Кидая тень в версту,
проходим мимо,
с глазами в пустоту,
с улыбкой мима.
Обман-обман-обман
пустой, продажный.
Всё поглотит туман
густой и влажный.
Читать дальше
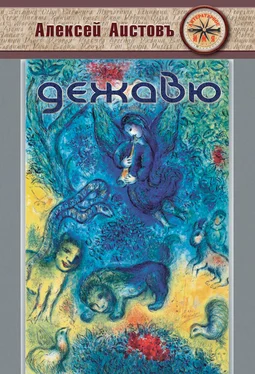
![Алексей Гридин - Рубеж [сборник]](/books/27179/aleksej-gridin-rubezh-sbornik-thumb.webp)