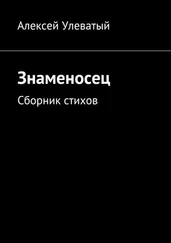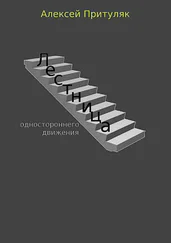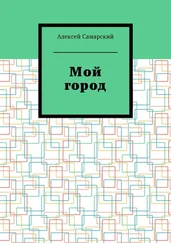Внутри себя я в Петербурге(с),
а потому с утра дожди
заморосили переулки
и льют за шиворот души.
Кружу себе по ртутным лужам,
к любви сбежавший налегке,
и с каждым шагом мир мой уже, —
в подъезд уткнётся на замке,
где коммунальные квартиры
в Позавчерашнем заперлись
задвижками времён Бастилий
и паутиной у карниз.
Где старый фильм (потёрта плёнка)
смотрю до одури зари:
кленовый лист в руке ребёнка
в саду Михайловском горит…
Хмельная осень Петербурга!
Тебе по-варварски молюсь
просветом в облачности с юга,
и невским ветром в ритме blues.
В комиссионке на 7-ой Советской,
где пыль из прошлого до потолка,
где смотрят в зеркала мои все двести…
(за гранью спрятаны, наверняка)
года, что вылупились в круглом глазе
чеканкой, супницей, огней игрой
в плавильне хрусталя. Сожмут в досаде
и выбросят потом ночной порой
в крик неизвестногО, что сдуру купишь…
Зиянье магазинной тишины,
где бедность продаётся на поруки,
промокло звуком порванной струны.
Не каждый вхож в те сомкнутые двери,
где ночь и день – над тайной абажур,
надежды где взошли и пожелтели,
оставив тень от света прошлых лун.
Не вещи, души их, как та дорога
в извилинах прошедшего пути,
зовут к себе, им так нужна подмога,
из тупика людской ненужности…
Иду, иду Суворовским на Невский,
пусть Старый, но до дрожи дорогой,
с Восстанием прощаюсь, будто с детством,
ведь я живу сегодня под Москвой.
Болтается на волнах лодка
Болтается на волнах лодка.
И дождик мерзкий моросит.
Такая невская погода,
что костный мозг и тот осип.
Здесь тротуары в лужах уже,
в них неба заспанная ртуть.
Петляешь в никуда, но хуже,
что н е куда.
И не свернуть…
Туда, где вещие витрины
отпаривают рубль в уют,
бреду, как в роще мандаринов,
жуя оскомину свою.
А все вода в гранитной фляге
прокисла ропотом морей
в божественность петровской браги,
что пьёшь до дна… И мне налей!
Бросается хмельная лодка
в смертельный поцелуй волны…
И боль ангины словом в глотке —
со вкусом ангельской слюны…
лучше под утро
вернуться назад
в тень Петербурга —
глухой Ленинград.
где в недосыпе
густою волной
запах насытит
сермягой ржаной
круглого хлеба,
что грузят с машин
вглубь полусвета
от хлебных витрин…
добрый трудяга
узнает меня, —
хлеб, без напряга,
в мои времена
бросит: покушай…
попробуй, какой,
лучше – не лучше,
но, точно, другой.
бросит сквозь Лета,
что грузит с машин
в прошлое лето
из нынешних зим.
в лучшее утро,
как взглянешь назад
в тень Петербурга,
где спит Ленинград…
Этот пятый маршрут на Васильевский
В этот пятый маршрут на Васильевский,
/что пройдёт над свинцовостью слизистой
в магнетизм
меж двумя Нилу подданных/,
как листок календарный оторванный,
я сажусь,
вопреки невозможному…
И трамвайный посредник из прошлого,
повезет, повезёт, отвезёт на конечную,
если только, конечно, не сплю…
Где-то бродит сумасшедший
Я знаю, где-то бродит сумасшедший
по Питеру, упрятавшись в толпе.
Горящий взгляд из «…повестей» сошедший
прохожим плавит думы в голове.
Растерянные, раненные люди
бегут от взгляда в сумраки страстей:
в проспекты, в переулки сирых судеб,
в столетний омут питерских дождей…
Я знаю, голод здесь и не кончался,
и людоед ждёт в проходном дворе,
где пульса страх всё громче час от часа,
как метроном в том лютом январе…
Блестящий город! Город мой убийца,
не утолить стихами невский бред.
Пусть сбудется, чему должно случится,
в гранит пространства вслаивая след.
Шагов осколки в арочных воротах
звучат, как смута, – времени излом.
Замедлю шаг и я пред поворотом,
пред неизбежностью за тем углом.
Я знаю, где-то бродит сумасшедший…
За закрытым навечно окошком —
Подоконника сумрачный мир,
где в цветах позабытая кошка
лижет времени кислый пломбир.
Засолил Петербург бесконечность
в окнах-паузах серой стены,
где сознание вдоль-поперечно
перемирия жаждет войны.
Читать дальше
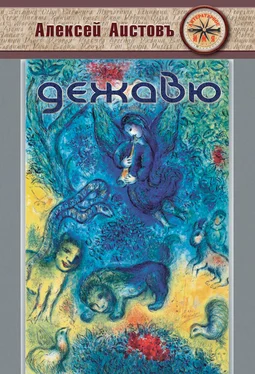
![Алексей Гридин - Рубеж [сборник]](/books/27179/aleksej-gridin-rubezh-sbornik-thumb.webp)