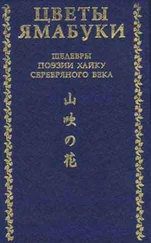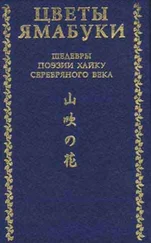Известно ль им – тут недруги ужасны,
так много их, так много всюду зла?
Так спой же, птица, о земле прекрасной,
в которую весна уже пришла!
Несешь ли песню от долин и склонов,
напев родной земли доныне жив?
И сжалился ль Всевышний над Сионом,
или теперь там кладбище лежит?
Все так же пахнет чудная долина
Шарона и вершина Левоны?
И не прервал ли сон свой вечный, длинный,
Ливан – или, как прежде, видит сны?
Что увлажняет там Хермона склоны —
слеза с небес – иль росы поутру?
А Иордана берега – зелены?
А как там горы, что стоят вокруг?
Все так же тучи в тех краях нередки?
Все так же тьма повсюду там лежит?
Спой, птица, о земле, в которой предки
смерть находили, находили жизнь…
Скажи – ростки, наверное, завяли,
те, что сажал я в том краю весной?
Когда-то цвел я сам – теперь едва ли
мне хватит сил, и старость предо мной.
Скажи же, птица, что там нашептали,
листы и корни? Что узнали мы
от них? Они шептали, что мечтали
опять занять ливанские холмы?
А братья, что там сеют со слезами —
поют ли, собирая урожай?
О, мне бы крылья – я б давно был с вами —
я б полетел в цветущий этот край!
А что тебе я сам сказал бы, птица,
что хочешь из моих услышать уст?
Не пенье – только плач тут может литься,
ведь этот край так холоден и пуст.
О бедах ли бесчисленных поведать,
что всем известны, – это хочешь знать?
Кто их сочтет, измерит, эти беды,
что вновь настанут, что придут опять?
Лети же – над пустыней, над горою,
покинь меня и улетай к себе,
поскольку здесь, крылатая, со мною,
ты будешь плакать о моей судьбе.
Но только слезы ничего не значат,
рыданье утешенья не дает.
Давно болят глаза мои от плача,
и сердце так измучено мое!
Уже давно устали слезы литься,
и нет конца, не совладать с тоской.
Привет тебе, вернувшаяся птица!
Возвысь же к небу чистых голос свой!
С птичьим посвистом – маминых уст поцелуй
от ресниц отгоняет виденье ночное.
Я проснулся, и свет в белизне своих струй
мне ударил в лицо необъятной волною.
Лезут сны на карниз, и покуда хранят
тени сладкой дремоты прикрытые веки,
но уже пронеслось ликование дня
по булыжнику улиц в гремящей телеге.
Из сидящего в раме окошка гнезда
раскричалась птенцы, опьяненные светом,
и уже за окном началась суета —
то друзья-ветерки заявились с приветом.
И зовут, и лучатся, сияют светло,
торопливо мигают, снуют, намекают,
как птенцы озорные, стучатся в стекло,
ускользнут, возвратятся и снова мигают.
И в сиянье их лиц на окошке своем
различу я призыв: «Выходи же наружу!
Мы ребячеством радостным утро зальем,
мы ворвемся повсюду, где свет обнаружим:
мы растреплем волну золотистых кудрей,
по поверхности вод пронесемся волнами,
в сладких грезах детей, и в сердцах матерей,
и в росе засверкаем – и ты вместе с нами!
В детском плаче, в изогнутом птичьем крыле,
в мыльном радужном шаре, на пуговке медной,
и на гранях стакана на вашем столе,
и в веселом звучании песни победной!»
Над кроватью снует их прозрачный отряд
и щекочет меня в полусне моем сладком,
и сияют их глазки, и лица горят,
на щеках зажигая огни лихорадки.
Я брежу, и тает плоть…
Омой меня светом, Господь!
Эй, зефиры прозрачные! Ну-ка, ко мне,
залезайте, мигая и делая рожи,
пробегитесь по белой моей простыне,
воспаленным глазам и пылающей коже,
по кудрям, по ресницам, по ямочкам щек —
и в глубины зрачков сквозь прикрытые веки,
омывайте мне сердце и кровь, и еще —
растворитесь в душе – и светите вовеки!
И горячая дрема меня обоймет,
и наполнится сладостью каждая жилка,
кровь сметает преграды, и в сердце поет
изначальная радость безмерно и пылко.
Как сладко, и тает плоть!
Залей меня светом, Господь!
Приоткрыто окошко в ночной тишине,
волны ветра чредою заходят ко мне.
Тихо-тихо текут, их шаги не слышны,
будто только вернулись из тайной страны.
Как неслышно порхают, садясь на постель,
будто полные тайной пропавших земель.
Читать дальше