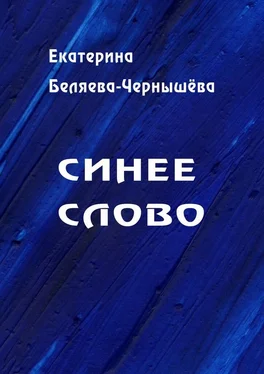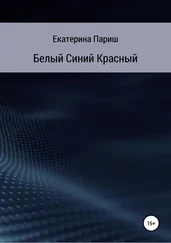Что ж, по знакам, как по столбам,
отмечающим километры,
пробирайся к своим крестам,
подбирая слова и ветры.
Что же, выбрано – решено.
Время будет дотошно строго.
Нам судьбы на двоих дано,
одному это слишком много.
Всё возможно пока ещё;
синей складкой взметнётся тога,
ляжет жизнь на твоё плечо
безупречной ладонью Бога.
«На строке чужой, на взлёте, взмахе крыл…»
На строке чужой, на взлёте, взмахе крыл,
помоги мне удержаться, строгий Бог.
Невозможно, невозможно, нету сил —
Этот голос, эти ритмы, этот слог.
Вся бессильная словесная труха,
все ответы и пути, теченье вод
перечёркнуты звучанием стиха,
где литая интонация живёт.
И живая, неподдельная, как стон,
нарастая, тихо, исподволь она
подчинит себе глубинный рокот волн,
рокот моря, потемневшего до дна.
Так на счастье, на мученье и беду,
перехлёстывает пена прямо к нам
(так воздушные потоки ерунду
легковесную вздымают к небесам).
Позабыв свои огрехи и грехи,
задыхаясь, спотыкаясь и спеша,
в том горниле, где он выплавил стихи,
каждый раз переплавляется душа.
«То ли «нет», то ли «да…»
То ли «нет», то ли «да».
Синеватая наледь.
Вот и всё. Холода.
Ничего не исправить.
Ты не то, чтобы лишний,
но грустит у перрона
поезд в Нижний —
всего-то четыре вагона.
Гам. Дымит самокрутка.
(Ночи сумрачно лунны.)
Отъезжает маршрутка
до Парижской комунны.
Перевозчиков прыть,
с багажом суматоха…
Я стараюсь не быть.
Получается плохо.
И гудки говорят
даже слишком понятно.
Холода. Снегопад.
К декабрю, вероятно.
Ты мог бы стать моей безудержной любовью,
но ей не стал; не стал надеждой зыбкой.
Ты мог бы – но не станешь – ни судьбою,
ни даже первой страшною ошибкой.
Я, верно, всё могла б преодолеть
с тобой – но, кажется, недостаёт отваги
зажмурившись, шаг сделать – и взлететь,
легко, как самолётик из бумаги.
Взлетев, открыть глаза и увидать,
как далеко земля – и будь что будет…
А знаешь, если рук не разнимать,
то всё не важно – ветер, годы, судьбы.
Так что ж я нерешительно стою
у края этой пропасти прекрасной,
и не могу произнести «люблю»,
и чудится, что всё вокруг – напрасно?..
Сомнения клубятся серой пылью —
всё не пойму из наших встреч земных:
способны ли твои к полёту крылья,
и вообще ты помнишь ли о них?
Чёрное – белое. Холод – жара.
Вечно звучащее: «Надо. Пора».
Вечно-родное, летящее мимо.
Дверь закрывается – неотвратимо.
Верить – не верить, запомнить – забыть.
Это посмертное право – любить.
…Знаешь, любое прощание – смерть.
Не выходи за порог смотреть.
Просто ли видеть, как вдалеке
тает фигурка? Так на песке
белом прибрежном – тают следы,
так уплывают весенние льды,
так замерзают зимой в холода,
так забывают меня – навсегда.
Время, я тоже училась жить.
Проще остаться, чем уходить.
Тупо, бессмысленно, глядя на пламя —
проще, чем так вот – своими руками!
Проще, чем, первым шагнув в пустоту,
крылья успеть отрастить на лету.
Многие я не постигла науки,
так не давалось забвение в руки.
Так зачастую я наперёд
знала откуда-то – не приведёт
встретиться снова придирчивый случай
(зная, что с кем-то не встретиться – лучше),
просто и радостно, трудно и сложно —
помнила – бережно, страстно, тревожно —
каждую каплю в мерцании вод,
каждую встречу и каждый уход.
…Что ты, ведь я не просила иного.
Жизнь моя, память, синее слово,
если б не это – я, падая вниз,
не захотела б, наверно, спастись.
«Мне тридцать… Игра, право слово, не боле…»
Мне тридцать… Игра, право слово, не боле.
Я девочка, женщина, ветер на воле.
Внезапная блажь, потаённое зелье —
ещё на губах не застыло веселье —
но я уже знаю, что скоро поманит
иное, что прошлое плотно затянет
туманом. И скрипнут протяжно ворота;
я стану лишь временем, точкой отсчёта…
Мне скоро прибиться, прижаться к коленям —
и я ещё верю случайным мгновеньям,
но втайне уже начинаю прощаться
и медленно, необратимо меняться.
Читать дальше