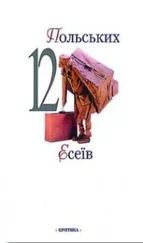уста Поэта
стали пустым горизонтом
птицы дети и жены не могут жить
в черепках разбитого города
на холодной постели пепла
город стоит над водой
гладкой как память зеркала
он отражается от самого дна
и улетает к высокой звезде
где запах пожара такой далекий
как Илиада
Красная туча пыли —
память о том пожаре
когда закатился город
за горизонт земли
нужно разрушить
еще одну вот эту стену
еще один кирпичный хорал
чтобы открытая рана
между взглядом и воспоминаньем
зарубцевалась
рабочие те что утром
кофе пьют с молоком шелестят газетой
отогрели дыханием рассвет и дождь
коченевший так долго в умершем воздухе
стальным канатом
напряженным молчаньем
подымают как флаг
освобожденное от руин пространство
опадает красная туча пыли
перелет через пустыню
на высоте уничтоженных этажей
выплыли окна без рам
когда падет
последняя вертикаль
рухнет кирпичный хорал
и поднимется из руин мечта
о городе который здесь был
о городе который здесь будет
которого нет
Надпись [2] Стихотворение послано в письме к Ежи Завейскому в октябре 1949; в 1950 публиковалось в периодике.
Смотришь на мои руки
слабые – говоришь – как цветы
смотришь на мои губы
им не под силу словом объять мир
– покачаемся лучше на стебельке мгновенья
упьемся ветром
посмотрим как заходят наши глаза
запах увяданья прекрасней всего на свете
очертанья руин смягчают боль
во мне огонь который мыслит
ветер который полнит парус
руки мои нетерпеливы
могут
голову друга
изваять из воздуха
твержу я стих который хотел бы
перевести на санскрит
или на пирамиду:
когда источник звезд иссякнет
мы осветим собою ночь
когда окаменеет ветер
мы приведем в движенье воздух
Мой отец [3] Стихотворение послано было в письме к Хенрику Эльзенбергу в июле 1952, в 1954 публиковалось среди нескольких других в альманахе молодых поэтов. Образ отца мифологизирован.
Отец мой был поклонник Франса
курил Отменный Македонский
и в синем дыме колыхался
смакуя шик усмешки тонкой
и я в далекие те годы
отца склоненного над книгой
считал Синдбадом Мореходом
которому порой тоскливо
Бывало на ковре волшебном
он улетал от домочадцев
По атласам бежали вслед мы
он исчезал Но возвращался
в туфлях домашних снова здешний
ключами вновь звенел в кармане
жизнь шла но шла без изменений
капля по капле дни за днями
однажды занавески сняли
он сквозь окно и не вернулся
грустил ли расставаясь с нами
а может и не обернулся
в одном журнале иностранном
я видел снимок остров дальний
у них отец мой губернатор
либерализм у них и пальмы
Шли по ущельям бывших улиц
шли красным морем пепелищ
и как закатом красной пылью
был озарен погибший город
Шли по ущельям бывших улиц
рассвет своим дыханьем грели
и говорили что нескоро
подымется здесь первый дом
Шли по ущельям бывших улиц
надеялись найти хоть след
Поет гармошка
инвалида
об ивах
и о чьих-то милых
Профессору Хенрику Эльзенбергу [4] Это стихотворение Херберт послал Эльзенбергу в письме от 16.12.1951. Профессора Эльзенберга (1887–1967), преподававшего после войны в университете в Торуне, Херберт избрал своим наставником в философии. Марку Аврелию была посвящена докторская диссертация Эльзенберга (1921) и книга «Марк Аврелий. Из истории и психологии этики», вышедшая в 1922, экземпляр этой книги сохранился в библиотеке Херберта с его пометками.
Марк доброй ночи свет гаси
книгу закрой Над головою
звезд яркий клич звучит в ночи
то речью говорит чужою
небо то варваров сигнал
коего нет в твоей латыни
то темный страх как темный вал
о хрупкие брега людские
бьет Он всесилен Слышишь гул
прилива Смоет твои буквы
стихий неудержимый бунт
и рухнет мира остов хрупкий
что ж нам – дрожать ли на ветру
и снова дуть в погасший пепел
грызть пальцы тщетных слов ища
тащить с собою павших тени
Читать дальше
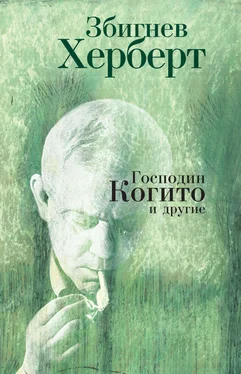
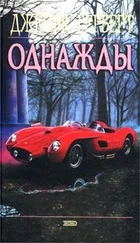
![Говард Фаст - Муравейник Хеллстрома.[Херберт Ф. Муравейник Хеллстрома. Фаст Г. Рассказы]](/books/84780/govard-fast-muravejnik-hellstroma-herbert-f-mura-thumb.webp)


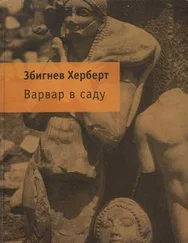

![Анатолий Подшивалов - Господин изобретатель [≈ Господин Изобретатель. Часть I (СИ) + 1-я глава книги Господин Изобретатель. Часть II (СИ)] [litres]](/books/388405/anatolij-podshivalov-gospodin-izobretatel-gospodin-izobretatel-chast-i-si-1-ya-glava-knigi-gospodin-izobretatel-chast-ii-si-litres-thumb.webp)