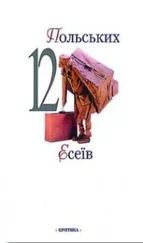«Рапорт из осажденного города» – это был опять новый, опять для многих неожиданный Херберт. По контрасту с предыдущей, наиболее «универсальной» книгой – «Господин Когито» в новой книге особенно мощно звучала ее подчеркнутая польскость. Впрочем, польское и общечеловеческое сосуществовали в поэзии Херберта всегда (сосуществуют они и в давнем стихотворении «Ответ»). Сосуществовали в подвижном равновесии. И в новой книге общечеловеческое никоим образом не исчезло. «Осажденный город» – это не только Польша (или Варшава), это любой город (крепость, монастырь, горный перевал), защитники которого решили стоять до конца – в наше время или в древности, потому что любая древность – это тоже наше время.
Вплоть до 1989-го многие стихотворения книги по цензурным условиям публиковать было невозможно.
И вот «последний Херберт», Херберт последних трех книг – «Элегия на уход» (Париж, 1990; Вроцлав, 1992), «Ровиго» (Вроцлав, 1992), «Эпилог бури» (Вроцлав, 1998). Это книги в значительной мере автобиографические. Стихи, как правило, от первого лица. Уже не «лирика роли», не «лирика маски». Максимальная – максимально возможная для сдержанного Херберта (сдержанного по натуре или по многолетней привычке?) – откровенность. Наряду с проповедью и вместо проповеди появляется исповедь:
я не мог выбрать
ничего в моей жизни
согласно моей воле
знаньям
добрым намереньям
ни профессии
ни приюта в истории
ни системы которая все объясняет…
«Облака над Феррарой». Польские поэты XX века, т. II
Если приглядеться, эти перемены – в сторону автобиографичности, откровенности, приватности, домашности – произошли уже раньше. Уже «Рапорт из осажденного города», самая гражданская книга Херберта, была – несколько неожиданно – посвящена жене. И даже не Катажине, а Касе, в уменьшительно-ласкательной, домашней форме (пани Катажина, урожденная Дзедушицкая, стала женой Херберта в 1968 году). Стихотворение о матери было уже в книге «Господин Когито» (перевод – «ИЛ», 1998, № 8), а в «Рапорте» появилась «Фотография» (перевод – там же) – сентиментальное воспоминание об отце и о себе, о довоенном мальчишке-подростке.
Новое в книге «Ровиго» – «итальянские стихи». Города Италии, ее архитектура и живопись, ее архитекторы и живописцы давно занимали важное место в эссеистике Херберта (в книге «Варвар в саду», 1964), теперь они появились и в его поэзии. (Здесь, наверно, нужно напомнить, что Херберт, прежде чем получить дипломы экономиста в Торговой академии и юриста в университете, прежде чем изучать философию в двух университетах, учился короткое время – в 1945-м – в краковской Академии художеств. А рисовать продолжал всю жизнь.) В двух стихотворениях книги Херберт говорит о Ферраре, она напоминает ему «отнятый город отцов».
С Феррарой Херберт сравнивает родной Львов (исторический центр которого построен итальянцами). Львов здесь все еще не назван по имени, как не был назван в стихотворении «Мой город» в книге 1957-го и в стихотворении «Господин Когито думает о возвращении в родной город» в книге 1974-го. По имени Львов будет назван только в последней книге – «Эпилог бури».
Свое воображаемое возвращение во Львов Херберт описывает в стихотворении «Высокий Замок».
Высокий Замок – это парк на горе, возвышающейся над Львовом, на горе, где сохранились руины замка XIV века. На гору можно вскарабкаться пешком, но можно ехать и на трамвае. С горы – вид на весь город и на окрестности. Львовянин Станислав Лем, земляк Херберта, человек того же поколения, опубликовал книгу о своем львовском детстве и отрочестве. Книга так и называлась – «Высокий Замок»:«…Тем, чем является для христианина небо, был для каждого из нас Высокий Замок… это, собственно, было не место, а состояние – состояние совершенного блаженства…»
В 1973-м, посылая Херберту первую публикацию его стихов в «ИЛ», я послал ему также и только что вышедший в Москве томик другого польского поэта-львовянина, Леопольда Стаффа, с моим предисловием, в этом предисловии мои львовские восторги – тогда еще свежие – присутствовали в полной мере. Херберта особенно тронула надпись: «Zbigniewowi Herbertowi – rzecz о Staffie i o Lwowie». Так началась наша переписка. А увидеться удалось лишь много лет спустя.
При встрече оказалось, что Херберт не только свободно читает по-русски, но и свободно, без акцента, говорит (на мое удивление по этому поводу он заметил с гордостью: «У меня вообще способности к языкам»). А вот русские мотивы в поэзии Херберта немногочисленны. Имена тоже. Толстой и Достоевский? Нет, Толстой и Кропоткин. Достоевский лишь мелькнул – рядом с Паскалем – в стихотворении «Бездна Господина Когито» («ИЛ», 1990, № 8). Зато о побеге Петра Кропоткина из царской тюрьмы рассказывается подробнейшим образом в стихотворении «Игра Господина Когито». Херберт читал и помнил записки Кропоткина, но кое-что изобразил иначе, чем было. Так, скрипач, дающий знак к побегу, играет у Херберта «Похищение из сераля» (название вещи Херберт выбрал ради «игры», ради игровой, иронической параллели к «похищению» царского узника), а не мазурку Контского, как было на самом деле. И самый побег у Херберта происходит не из тюремной больницы, как было, а из Петропавловской крепости – из твердыни самодержавия.
Читать дальше
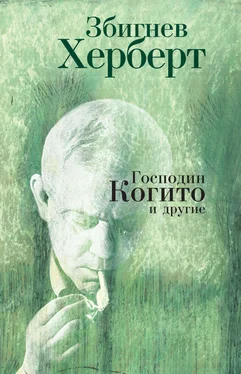
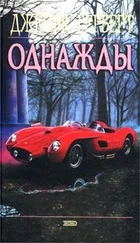
![Говард Фаст - Муравейник Хеллстрома.[Херберт Ф. Муравейник Хеллстрома. Фаст Г. Рассказы]](/books/84780/govard-fast-muravejnik-hellstroma-herbert-f-mura-thumb.webp)


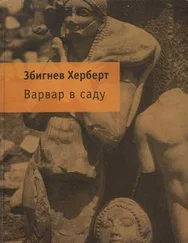

![Анатолий Подшивалов - Господин изобретатель [≈ Господин Изобретатель. Часть I (СИ) + 1-я глава книги Господин Изобретатель. Часть II (СИ)] [litres]](/books/388405/anatolij-podshivalov-gospodin-izobretatel-gospodin-izobretatel-chast-i-si-1-ya-glava-knigi-gospodin-izobretatel-chast-ii-si-litres-thumb.webp)