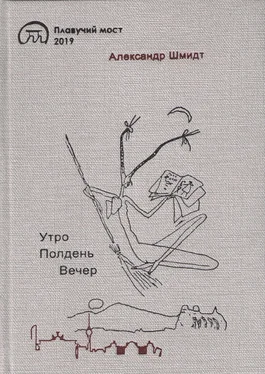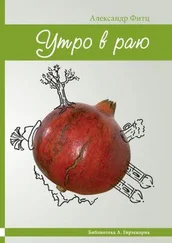Эту молитву я вспомнил жизнь спустя. Помогла мне ее вспомнить Нора Пфеффер, бывшая лагерница, поэт – человек трудной и замечательной судьбы. «Ты помнишь слова?» Я ответил, что только ритм, интонацию, но если бы мне прочитали эту молитву, я бы узнал ее среди всех других…Тогда Нора стала мне читать их, одну за другой. Бабушкину я узнал сразу. И вспомнилось все: завывание ветра в трубе, стук ставня, внимательная, как божий взгляд, звезда в вымороженном окне, наши голоса, слова молитвы, положенные на бурю.
Я приезжал в Новопокровку уже в студенческие годы. Так же, как в детстве, я пошел от Переезда пешком. Расстояние показалось мне совсем незначительным. Когда подошел, открылась картина совсем жалкая: постаревшие, умирающие тополя, совсем небольшие, пустырь на месте дома. Я стоял, и меня глодало странное чувство вины, хотя в чем я был виноват? Умер дед, разобрали дом по бревнышку, одним словом, мерзость запустения. Даже деревья, ощутив свою брошенность, ненужность людям, стали умирать. Не знаю, способны ли они помнить, но мне почудился в шелесте листвы укор. Я прижался лицом к тополю, безутешный к безутешному.
В детстве я часто находил в степи, в окрестностях дома разнообразные черепки, осколки фаянсовой посуды. Самые красивые, глазурованные, с орнаментом, я собирал в свою сокровищницу. Только недавно страшная догадка поразила меня: ведь эти черепки я находил на месте бывших жилищ, здесь когда-то жили люди, была целая улица домов, таких, как у моего деда. Их изгнали, раскулачили, уничтожили. Остались только черепки, разноцветные осколки-остраконы, – так древние греки называли подобные черепки, которыми они голосовали за изгнание со своей родины неугодных людей. Подвергали, так сказать, остракизму. Сколько же людей подвергли остракизму только за этот страшный, ненадежный век! Где-нибудь в Поволжье какой-нибудь мальчик на месте родительского дома моего отца нашел или еще найдет битые черепки, осколки посуды. Может быть, он задумается, что за люди жили здесь, и почему их больше нет.
Почему мы так безнадежно-пристально всматриваемся в незнакомо-знакомое прошлое, пытаясь различить хоть что-то родное, близкое, хранящее тепло узнавания. Мы всматриваемся в него, преодолевая оптическое несовершенство памяти, до рези в глазах, до смятения в душах, до боли в сердцах. Мы узнаем местность, дорогу, пейзаж. Линия леса на горизонте знакома, как линия жизни на нашей ладони. Но что-то главное вынуто из всего этого, и без него оно становится пустым и холодным, как слово «ландшафт».
Я ехал по знакомым местам, вспоминая их и себя, минуя Под-пай, Михайловку, Камышинку, Дмитриевку, Бородулиху, Сосновку…Я прочитывал названия сел: они теперь на двух языках – государственном и латинице. Почему латиница? Может быть, это знак скончавшейся империи, особая форма вежливости мертвых? Может быть, приглашение для инопланетян? Зачем я приехал сюда? Что я надеюсь найти в этот свой приезд в Ивановку, когда здесь никого из родных не осталось? Странное чувство какой-то нереальной реальности возникает, когда идешь мимо знакомых домов, в которых еще вчера жили твои близкие, кажется, загляни в стеклянно безучастное окно и обнаружишь, что это плоскость декорации, фикция, наваждение, за которым – ничто, космические потемки… Что осталось здесь моего, родного? Только тихое сельское кладбище. Здесь теперь моя родина размером с родную могилу. Я не был здесь со дня бабушкиных похорон в 1980 году. Я уже не помню, где ее могила. Все кладбище заросло травой. Нет никого, кто бы за ним ухаживал. Все там, в другой стране, на исторической родине. Я иду от могилы к могиле. Ноги оплетает высокая цепкая трава. Знакомые все имена. Не могу найти. И уже в отчаянии, с вывихнутым сердцем, по наитию нахожу: Шмидт Амалия Андреевна. Здесь лежит моя голубушка. Всеми и навсегда оставленная. Трава вровень с крестом. Трава Забвения. Я рву ее с бессильным ожесточением, рву и плачу, и шепчу:
Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
Блаженны алчущие и жаждущие правду,
Ибо они насытятся.
Я рву траву и глотаю слезы: блаженны изгнанные… У нас отнимают родину, дома, могилы близких. Мы теряем все. У нас остается только память, горькая, как степная полынь. У нас остается только бабушкина молитва. Только Слово…
Утром
Тень моя
Суха и благородна,
Как рыцарь из Ламанчи.
К полудню
Толста и добродушна,
Как его вечный спутник.
А вечером —
Нелепо мельтешит,
Словно ветряная мельница.
Читать дальше