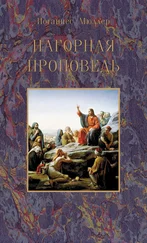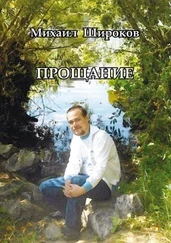Мама и на сей раз была «против», когда отец, по возвращении беглеца, встретил его словами:
— Ну, за это ты у меня поплатишься!
Мама стояла у двери в гостиную.
— Хотя бы открытку прислал! — сказала она. — Как можно доставлять родителям столько беспокойства?
— Этому негодяю до нас никакого дела нет, он только того и добивается, чтобы прежде времени свести нас в могилу, Ну так вот, на летние каникулы мы едем в Гармиш-Партенкирхен, а ты останешься дома, так и знай.
«Чудесно!» — радовался я про себя: у меня в кармане лежал ответ Мопса, в котором он сообщал, что в середине июля собирается недели на две в Мюнхен… «Наконец-то, сколько лет прошло…»
— А что касается встреч с Гартингером, которые ты опять возобновил, — закончил отец, отпуская меня, — то имей в виду, что всякому терпению есть предел. Если ты с сегодняшнего дня не прекратишь эти встречи, я вынужден буду тебя просить, — ты видишь, я говорю совершенно спокойно, — не переступать больше порога этого дома. Старик Гартингер, при его блестящих связях, конечно, немедленно обеспечит тебя доходной службой. Быть может, даже усыновит тебя!
«И все это кончается эшафотом…» — мысленно передразнил я отца.
Но отец говорил размеренно и спокойно, так говорил бы он, выступая в суде, в его тоне чувствовалось даже некоторое равнодушие, — возможно, он уже отказался от мысли переубедить или «исправить» меня и хотел только внести во все полную ясность и решить вопрос по-деловому.
«Какое мне дело до твоей жизни, до твоей неудавшейся жизни? — хотел я бросить ему в лицо. — Я не свалка для всякой дряни, — но я сказал Болтуну и Пустозвону: Молчи! Эта разбитая жизнь мне вовсе не безразлична. То самое, что изуродовало жизнь отцу, и меня против моей воли толкает на неверный путь». В моем нежелании жить по команде «смирно», в моем непослушании отец видел, вероятно, упрек себе; он-то слишком далеко зашел в послушании; а быть может, он опасался, что я когда-нибудь выдам его тайные помыслы и стремления, осуществив их в своей жизни, и тогда сын разоблачит отца, его загубленную и нежитую жизнь.
— До чего же упрям! До чего же упрям этот негодяй! От кого только он унаследовал такое упрямство! — не раз говорил матери отец, заранее отводя от себя всякое подозрение и взваливая всю ответственность на мать.
— У нас в роду этого не бывало! В нашем роду — никогда! — Этим отец обычно заканчивал свою обвинительную речь и поспешно выходил из комнаты.
Прошло всего несколько дней, и я почувствовал, как дом наш снова берет верх надо мной. Я всячески сопротивлялся; мрачно бродя по комнатам, я до последней мелочи восстанавливал в памяти свою пасхальную поездку. Обороняясь от неумолимой власти дома, я без конца бормотал, точно заклинание: «Вот оно, наконец». И ввысь, к облакам, плывущим в бесконечном небе, обращал я свой взор. О, это поле боя! Но повсюду подстерегали меня тенета воспоминаний, я все более и более запутывался в них, и вот уж я снова — один из обитателей дома № 5 по Гессштрассе, без надежды на избавление.
Все сговорилось против меня. Все в доме душило мое стремление к новой жизни, даже вид из окна на пансион Зуснер. И Христина, гремевшая кастрюлями на кухне, и портрет матери, стоявший на мольберте в гостиной, и сама мама, которая была «против». «Тебе никогда, во веки веков не вырваться отсюда, если ты будешь цепляться за всю эту рухлядь», — твердил я беспомощно…
Видно, весь дом казнит меня теперь за то оскорбление, которое я нанес ему своим бегством. Бесчисленными, мелкими, незримыми ударами избивал он меня, стремясь сделать безропотным и податливым. Каждая вещь, стоявшая навытяжку на указанном ей месте, — цветочные горшки, фарфор и вазы, картины, письменный стол, шкаф и кушетка, — набрасывалась на меня, покинувшего свое место, и, взяв под стражу, призывала к порядку. «Изменник! — ругал я себя. — Трус». И чем сильнее ругался, тем податливее становился. «В конце концов у нас здесь преуютно, премило», — издевался я над собой и, расслабленно скучая, поудобнее усаживался у окна после сытного обеда.
Они не выносили его, этого Гартингера. Мысленно я часто приводил его сюда. «Вон! — кричал ему весь дом. — Не смей переступать порог!» Стул отстранился бы, если бы «этот» захотел на него сесть; да что там! — стул предпочел бы сломать себе ножку, чем подставить «этому» свое сиденье. Стакан скорее разбился бы вдребезги, чем дал «ему» напиться. Самая дверь, когда я отворял ее, просила: «Только „ этого “, пожалуйста, не впускай!» А ковер свертывался в трубку: «Меня только что выбили! Смотри, чтобы „ этот“ не замарал меня! Гони его вон!»
Читать дальше