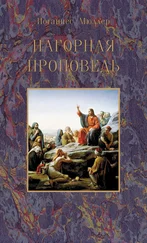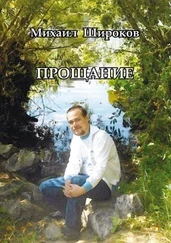— Послушайте, я давно хотел спросить, не знает ли кто из вас, как назывался тот корабль, это был целый корабль…
— Он назывался… назывался… — стал вспоминать Левенштейн и вспомнил: — Броненосец «Потемкин».
Да, это оно и есть! Все это звенья одной цепи, и они — дорога к новой жизни. Великое, единое целое!
Другой, новый мир…
Мы поднялись с зарей и по широкой магистрали покатили в Меерсбург. Не раз нам приходилось слезать с велосипедов и вести их в гору. Мы ехали как по огромному холмистому яблоневому саду, кое-где перемежавшемуся виноградниками. Когда мы наконец достигли Меерсбурга и перед нами широко раскинулось озеро, залитое расплавленным золотом солнца, Левенштейн спросил меня:
— Ты читал книгу Готфрида Келлера «Зеленый Генрих»? Нет?!
Гартингер, конечно, читал. Левенштейн помнил наизусть слова: «И если в каждом вечернем облачке мне видится знамя бессмертия, то пусть каждое утреннее облако станет для меня золотым стягом всемирной республики».
«Да, это оно и есть!» — звучали во мне отголоски моих вчерашних дум. Горы со снежными вершинами стояли полукругом, будто замыкая озеро высокой зубчатой стеной. «Это и есть самое важное, самое важное…» Совсем иные облака плыли в высоком, бесконечном небе. Следя за их парящим полетом, мог ли я оставаться прежним? Страхи рассеялись, и «зачем? зачем?» — спрашивало высокое, бесконечное небо, взирая сверху на поле сражения. Прекрасен мир, прекрасен… И потому, что он так неизъяснимо прекрасен, непременно наступит новая, совсем новая жизнь.
Через всю эту красоту, охраняя чьи-то внушительные владения, тянулась ограда, перевитая колючей проволокой, и грозная табличка предупреждала: «Злые собаки». Сразу зазвучали деланные голоса отца и лесоруба, и прекрасный мир раскололся на две половины. Но и прекрасная половина мира уже не была так прекрасна, она потускнела, ибо тени, отбрасываемые на нее другой, темной половиной, омрачали и тревожили ее.
Мы поехали дальше, до Крессбронна. Там мы нашли приют у владельца мелочной лавчонки, который жил у самого озера и, помимо торговли, давал напрокат лодки. Мы оставили у него велосипеды и побрели по берегу, швыряя в воду плоские камешки. Я смотрел вслед каждому пароходу, проплывавшему вдали, словно это и был тот самый благословенный корабль, привидевшийся мне однажды во сне, где я бежал на берег встречать его и от радости швырял камешки в воду.
Утром, когда мы проснулись на своем сеновале, из лавчонки к нам донесся крестьянский говор, чуждый, почти непонятный нам, точно в родной стране бок о бок с нами жили какие-то иностранцы. «Трое чужаков» и «городские» — называл нас лавочник в разговоре с крестьянами. Местные жители сторонились нас, но совершенно так же крессброннцы сторонились людвигсгафенцев, да и между жителями одного и того же селения не было единства, и они часто оспаривали друг у друга право называться «здешними». Общины враждовали с общинами, злобились друг на друга и вели нескончаемые тяжбы. Гартингер еще мог бы, пожалуй, найти общий язык с «чужеземцами», но и он невольно говорил с ними деланным голосом, да и те недоверчиво оглядывали его.
Мне опять стало страшно за Новую жизнь, особенно когда я подумал о городе: все отгородились друг от друга точно колючей проволокой, и грозная табличка предупреждала: «Осторожно! Злые собаки! Вход воспрещен!» Разве отец Гартингера не обнес высоким забором, чуть ли не в метр вышиной, приобретенный им жалкий клочок земли на заднем дворе, где он разводил бобы? И как он гордился своим забором, как тщательно и любовно каждую весну приводил его в порядок, заново красил и не упускал случая повесить табличку: «Осторожно! Окрашено!» А мой отец состоял в корпорации «Суэвия», куда более аристократической, чем «Франкония», не говоря уже о каких-то там землячествах. Ферейн игроков в кегли презирал ферейн игроков в скат, люди различных вероисповеданий и партий проявляли абсолютную нетерпимость друг к другу: мужские хоры постоянно воевали со смешанными; спортивные ферейны, различавшиеся по цвету трусов, состязались друг с другом… Весь мир, казалось, взят на откуп ферейнами…
Левенштейн пренебрежительно бросил:
— Мне бы их заботы: доится корова или не доится…
— Доится корова или не доится — это, по-твоему, не важно? — спокойно возразил ему Гартингер. — Не важно, как и чем живет человек? Ну, знаешь, ты глубоко заблуждаешься… Вообще, все то, что ты говоришь о крестьянах…
— С крестьянами мы легко столкуемся, только бы в городе решилось дело… — упорствовал Левенштейн.
Читать дальше