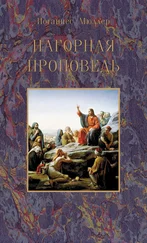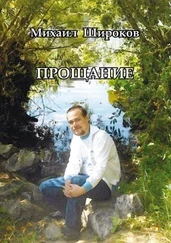В результате пастору блестяще удалось набросать такой портрет бабушки, который ни в чем не походил на оригинал.
Если верить этому священнику, бабушка была пангерманкой, мыслившей строго консервативно, и притом верной дочерью церкви, — на самом деле бабушка терпеть не могла пангерманцев и в церковь никогда не ходила, — всегда стремившейся воспитать в таком же духе своих детей и внуков… И все время, пока на гроб возлагался этот венок из казенной лжи, отец кивал с довольным видом.
Гроб медленно опускался в люк под звуки органа, исполнявшего хорал:
Когда и смерть и мука
Придут на склоне дня,
Когда придет разлука,
Не покидай меня.
Когда я в страхе буду
Таком, как никогда,
Возьми меня отсюда
И защити тогда!
Мне казалось, словно это бабушка говорит со мной голосом органа, и ее голос заполнял собой все вокруг, разрастаясь в мощную бурю звуков.
Органная буря затихала. Вот она сменилась тихими аккордами. Я увидел, как над клавишами заскользили руки. Бабушка в последний раз играла на рояле…
Пока пастор сплетал новый венок лжи, стараясь доказать, что последняя воля бабушки должна быть отнесена за счет ее долгой, изнуряющей дух болезни, — на самом деле бабушка написала свое завещание за много лет до смерти! — я, уставившись на свои сложенные руки, произносил про себя другую речь в надежде, что она как-нибудь дойдет до бабушки, хотя еще за день до того я объявил обманом всякие россказни о загробной жизни и бессмертии.
«Ты варила шоколад, а я тем временем обкрадывал тебя: прости меня за это. Я нарисовал для тебя картинку „Радость“, но могла ли она доставить тебе радость, раз все, что есть радостного, я омрачил войной? — прости меня и за это. В новогоднюю ночь ты сказала на балконе: „Пусть наступит новая жизнь“. Я хочу стать хорошим человеком, и новая жизнь наступит непременно: обещаю тебе. Только теперь, после твоей смерти, мы можем поговорить и все это сказать друг другу. Точно так же как дедушка перестал писать картины, так и ты молчала, на все кивала головой „да-да“, а в душе была „против“. Вот и мама, та, что на мольберте, совсем не похожа на маму с вязальными спицами. Но даже та, что со спицами, часто бывает „против“… Кто, в сущности, „против“? Да почти все. А кто „за“? Опять-таки почти все. И это потому, что их „за“ и „против“ стоят одно другого. Собственно, за что же они? И против чего? Против того, что кругом ложь, а избавления от нее не видно… А за что? За то, чтобы наступила новая жизнь… Ну нет, я не хочу быть таким, как все, так жить я не хочу… Я хочу сказать правду не в своей посмертной воле, а сейчас, и сказать ее во весь голос, как бы это ни было трудно. Новая жизнь наступит непременно, пусть только каждый громко скажет то, что говорит его внутренний голос… Почему это так? Нет ни одного человека, который был бы тем, за кого он себя выдает. Люди навели на себя мишурный глянец, и получается не жизнь, а мишура. А с годами они обрастают корой, под которой глохнет всякое стремление к лучшему. Разве нельзя быть стойким? Гартингер дернулся стойко. Я же сразу сказал неправду, как только директор Ферч начал меня „подтягивать“… Я — это не один и не два человека, а целое скопище людей. Которым же из них мне быть? Что я — и какой же из всех „я“ — могу сделать, чтобы стать тем или другим? Кто же все во мне перепутал? Неужели я никогда не буду настоящим человеком? Нет, нет, и еще раз нет, я не хочу всю жизнь стоять навытяжку перед ложью… Неужели есть только три выхода: стоять навытяжку, сойти с ума или же броситься с Гроссгесселоэского моста?! Безнадежная неразбериха… Неужели нет такого моста, который уводил бы от бездны?! Зажить по-новому! Да, зажить по-новому! Но как? Как?!»
Служитель подал знак: исчезни! Бабушка, исчезни! Раскрытый люк зиял. Гроб опускался…
— Идем, мальчуган, идем! — оттащил мальчугана от родителей дядя Оскар и пошел с ним вниз по ступенькам прямо к толстому огнеупорному стеклу. Мальчуган невольно вцепился в дядину руку. «Ад!» — бормотал он, глядя на огненную смерть, терзавшую его бабушку. В мгновение ока гроб лопнул. Языки пламени охватили тело, заключив его в бушующее море огня. Словно ожив на миг, тело пыталось противиться, но неистовый жар согнул и распрямил его, он вертел его во все стороны на раскаленном ложе.
— Ну, как?
Дядя Оскар ждал одобрительного отклика, словно адский огонь был делом его рук. Будто сам охваченный пламенем, понесся мальчуган по лесенке к родителям, и они со словами: «Уму непостижимо!» — не дожидаясь дяди Оскара, покинули крематорий.
Читать дальше