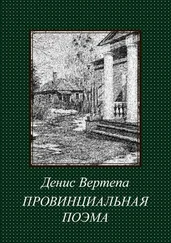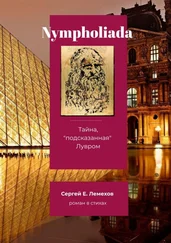Октябрь. Сестренка в интернате.
И в отпуске отец и мать.
Лежу в огромной их кровати,
Лень раскладушкой громыхать.
Тепло под этим одеялом,
В окошке полная луна,
ее серебряным металлом
вся комната озарена.
Сегодня полночью прозренье,
Сегодня с горечью пойму,
Свою судьбу, свое влеченье,
И не откроюсь никому.
И повторю жестокий вывод,
себе открывшись как врачу,
И страсть живую уличу,
И поклянусь не дать ей выход.
И вспомню все, и тело друга,
И тщетно скрытый сладкий пыл,
Когда отчаянно и сухо,
Я учащенный пульс тушил.
И отведу насильно взоры,
И образ вызову другой,
Но облик девочки нагой,
Не даст той чувственной опоры.
В нем будет свет, душа, движенье,
И красоты небесный лед,
Но сладострастное теченье,
Увы, пред нею опадет.
И вот тогда я обнаружу
В самом себе вдруг так легко
Вторую, чувственную душу,
Что пьет земное молоко.
Пойму, что нет милее речи,
какой не подводи закон,
Чем те, мальчишеские плечи,
Чем тот, мальчишеский бутон.
Что чем сильней я отрекаюсь,
От той непрошенной любви,
Тем глубже, глубже вовлекаюсь
В ее плакучие струи.
Как в черной золотой купели
Под звездный свет, под лунный гул,
В бездонно пуховой постели
Я засыпал и не тонул,
И два цветка благоухали,
Два нежных пола предо мной,
Один был мальчик- знак печали,
Другой девичий – пах весной,
Светились, плавно затухали,
И каждый звал меня с собой.
Две плоти, два благоуханья,
Та сладостна, та солона,
Зачем на каждое дыханье
во мне настроена струна.
А звездный ветер слушал мессу,
Как инструмент меня держал,
И обрывал мужскую пьесу,
И пьесу женскую играл.
Костер трещит, и ельник дымный
так странно мне глаза слезит.
Прощай, прощай, наш лагерь зимний
Мир солнца, радостей, обид!
Синеют зимние дорожки,
Созвездья первые зажглись,
Уж развернул меха гармошки
Наш хромоногий баянист.
Прощальный бал, прощальный танец,
играем в «почту» допоздна.
А ночь исполненная таинств,
Прошла поземкой вдоль окна.
Наш дом бревенчатый и прочный
по окна занесенный в снег,
Наверно в этот час полночный
похож на маленький ковчег.
И мы в нем 20 человек.
13 лет – опасный возраст,
Глаза на девочек косят,
А клуб в бумажных лентах, звездах,
Ах, мы давно не детский сад.
И на смешном клочке бумажки
От общей взбалмошной тоски
Строчу записочки Наташке
Про то, да сё, про пустяки,
И жду ответ, и нет ответа,
И на рассыльного сержусь,
Он обижается на это:
«Я добросовестно тружусь!»
Шум, бег, хихиканье девчонок,
Записки, хлопанье дверей.
А скрип полуночных поземок
Вдоль наших окон все слышней.
В последний раз с тобой танцую
Наташа, словно бы рискую
Твою ладонь в своей сжимать.
Себя стыдиться, понимать,
Что так ущербен, что карманы
До бедер продраны у брюк.
Что часто в глупые туманы
Впадаю от своих же рук.
А серые глаза Наташи
В волшебной клубной духоте
Блестели, звали жить иначе,
О жесткой пели чистоте!
Но – время! Славкою – вожатым,
Бал остановлен. Быстро спать.
Нас разгоняют по палатам.
Кто колобродит? Марш в кровать!
…Мне веки сон смежал легонько,
Но я еще не засыпал,
Как дверь открылась вдруг тихонько,
И я рассыльного узнал.
Он мне протягивал записку.
Как? От Наташи? Вдруг? Сейчас?
Ты что? Но поклонившись низко
Он тихо за дверьми погас.
Давно спала палата наша.
Я глянул, что там на листе.
Письмо писала не Наташа.
Оно светилось в темноте!
И знаки языка чужого
Горели руку серебря,
Но понял я три сладких слова,
Три знака: Я люблю тебя!
И сила вдруг в меня дохнула,
Я всплыл с постели голубой,
Дверь точно ветром распахнуло
В пустынный коридор ночной.
Почти что не касаясь пола
Я шел беззвучно вдоль палат
На зов певучего глагола,
Шел как лунатик наугад.
Но мгла рассыпалась опала,
И вот мне комната предстала,
Свеченье голубых снегов,
И запах плоти и цветов.
И как под пологом прозрачным
Мерцаньем трепетным омыт
Предстал он мне на ложе брачном,
Свет, Божество, Гермафродит.
И синих глаз девичий стыд.
Смуглела золотая кожа:
Ко мне, ко мне! Я твой удел! —
И к теплому дыханью ложа
Я тихо-тихо полетел.
Он как бы вверх поплыл всем телом
В лучах томленья своего,
И на губах зашелестела
плоть шелковистая его,
Я ничего не видел краше,
Когда как мрак могучих гроз
как свет, как жизненную чашу
Он Лоно мне свое поднес.
И я упал лицом как в счастье,
Дыша предобморочно им,
в провал влагалища сладчайший,
С приросшим фаллосом мужским.
Как в самый эпицентр СЛИЯНИЙ,
Как в корень – Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ,
А грозы сытных содроганий,
Уже качали плоть мою.
…И долго, долго я дивился
Уставясь в темный потолок,
Кто это был? Кто мне приснился?
Но ничего понять не мог.

![Петр Петров - Борель. Золото [сборник]](/books/99347/petr-petrov-borel-zoloto-sbornik-thumb.webp)





![Лев Ошанин - Вода бессмертия [роман в стихах]](/books/430610/lev-oshanin-voda-bessmertiya-roman-v-stihah-thumb.webp)