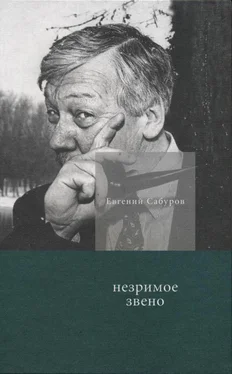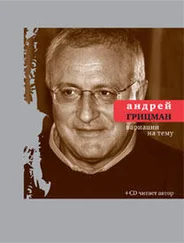Стали грубыми дома,
стала мутной резью жажда,
улицы сошли с ума,
в логове закрылся каждый.
Станем вдосталь пить и есть! —
вялыми губами спалишь
розовую фею – честь
опушенных сном влагалищ.
Черен редкий ворс лобка,
дочерна вверху обуглились
над обрывами белка,
над проколами из глуби
брови. Синь моя нежна
набухает, и алеет
прежде времени весна
нам под знаком Водолея.
По умятым дня полям
над проколами левкоев
ноги небо шевелят
белым снегом налитое.
«Пускай тебе не можется…»
Пускай тебе не можется,
но наклонись вперед —
пускай с тобою свяжется,
кто подался назад
и ад перед тобою
и во весь рост народ
стоит и горд собою
и сам собою рад.
А та, кого люблю я,
кого просил годить,
не гоже поцелуя,
которого не дать,
уходит вверх по трапу —
ах! вид! ах! самый стыд! —
не дать ли вовсе драпу
ах! в самый-ямый ад.
Он бел и свежекрашен,
о! рашн пароход,
который много раньше
в Германии был взят
в счет бед и репараций.
Он режет лоно вод.
Не можется начаться,
не свяжется начать.
«Завтра утром мир побреешь…»
Завтра утром мир побреешь
нам расскажешь. Что я вдруг?
Что я вдруг?
Стоя вдруг завожуся об евреях
вдруг отбившихся от рук.
Пук
пук цветов на лоне царском —
ты под вечер позвони —
называют государством
позвони, попой, усни.
Завтра будет – завтра будет
если же конечно не
разрешит Господь наш людям
успокоиться вполне —
новый день и в новом дне
то что будет, то что любим
любим да и любим нет.
Ах, в какое удивленье, пенье, мненье,
всепрощенье, енье, вленье, откреенье,
тенье, Господи, прости
наши души, наши семьи
не решатся прорасти.
«Этот день – ужасный день…»
Этот день – ужасный день,
этот срок – ужасный срок.
Вам на запад? На восток.
Дебри? Дерби. Дребедень.
Не расчисливай куски
разлинованного дня,
не рассчитывай тоски
от тебя и до меня.
Дерби? Дебри, конь в лесах,
трах! и сук по волосам —
я повис на волосах
и виновен в этом сам.
Ты куда несешься сам?
Ах! не думай о коне.
Пущенный не спустит мне
попущением отца.
Что передо мной горит?
То, что ночью говорит?
Несудимый одиноко
мрет и будет Богом
в сердце каждого зарыт.
«На рассвете в молочном мраке…»
На рассвете в молочном мраке
я тебе как кошка собаке
говорю: «Улялюм, Улялюм».
Ты ответствуешь мне степенно
на губах рыжеватой пеной
отмечается тяжесть дум.
И скулит над морем сирена.
О, пронзительный вопль искусства,
ты как водка идешь под капусту
и не знаешь куда идешь.
Душным запахом глушит чрево
розоватые визги гнева
надорвавшая голос ложь
осторожно обходит слева.
Улялюм тебе, Аннабель!
Беатричь тебя поебень!
Ноздреватый, денисьеватый
я с дороги ввалился в дом.
На столе только суп с котом.
Пот дымится молодцевато.
Кот – он держится молодцом.
Тортом вымазанным концом
приступаю к тебе с минетом,
ты оглядываешься на лето
и в холодном утреннем мраке,
как и следует выть собаке,
сев на корточки тянешь ртом.
Было время пел и я,
пел о том, что очень горько —
не сложилась жизнь моя,
горько – корка не с икоркой.
Я иконки почитал,
ездил в Новую Деревню,
был, иному не чета,
не последний, хоть не первый,—
и прошло, по сути, всё.
Всё прошло куда-то мимо.
Закрутилось в колесо
и лицо моей любимой —
мельк да вихрь да вопль и скорбь.
В одиночестве убогом
жить себе наперекор
самому же вышло боком.
Как шепоты ада,
как шелест загадочных кошек
приходит награда,
которой увенчан и кончен,
ты бывший увечный,
ты шедший на Бог знает что
не то ради женщин,
не то это всё-тки не то
и снова сначала
убог неопрятен и толст
в тоске и печали
ты в горе-злосчастье уполз.
«Я может быть прочту когда…»
Я может быть прочту когда —
нибудь тебе о нашей связи
такое, что никак не влазит,
ну, ни в какие ворота,
Читать дальше