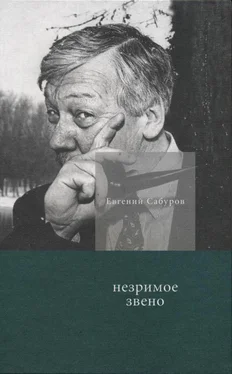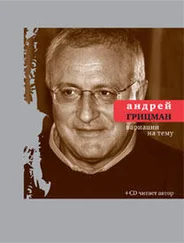А на всякое на лихо,
на недуги, на болезнь
– Свете тихий, Свете тихий,—
хоровая наша песнь.
«Как сатир, подверженный опале…»
Как сатир, подверженный опале,
покидает весь в слезах леса родные,
отстраняя плачущую нимфу,
удаляясь, удаляясь как в тумане
угрюмоветренное небо, ложнозначительный покой
нам в души гроздьями попадали
одна твоя рука отныне
внизу в ногах моих шаманит,
а ты во рту моем – рекой
козлоногие, ну что мы натворили?
нас не выгнал Пан, не крик застал в тумане
только нимфа обернется на прощанье
изгибаясь, раздвигая круглой попки крылья
«Я не жизнь свою похерил…»
Я не жизнь свою похерил —
я себе построил дом
кособокий, перепрели
загодя все доски в нем.
Тесом крыл, а дождик взял.
Жизнью жил, а хоть не умер,
слаб и не путем пискляв
что долдоню среди сумерек?
На ночь глядя, на ночь глядя
успокоиться пора.
Сядешь чай пить – девки-бляди
сами прыснут со двора.
Будешь чай пить, не толкуя
не о том, не о другом,
и кукушка накукует
новой жизни в старый дом.
Как заморский попугай
с жердочки я стану вякать,
стану вякать и играть,
стану какать в эту слякоть.
«Командировочный на койке отдыхал…»
Командировочный на койке отдыхал,
его душа парила над гостиницей,
внезапно – наглая бесстыдница —
непрожитая жизнь его влекла,
а он лежал, не зажигая лампы,
а он сумерничал, он даже чай не пил
и прожитую жизнь сдавал в утиль,
и отрывал не знамо где таланты,
которых отроду и не подозревал.
Душа его рвалась поверх горкома,
а сердце, очевидностью влекомо,
разваливалось у афишного столба.
Настаивался на окне кефир.
И вот пора после бессонной ночи
глядеться в зеркало и разминая очи
взвалить на голову неосвященный мир.
«Пять путешествий бледного кота…»
Пять путешествий бледного кота:
на край земли, в соседнюю квартиру,
к подножью среброликого кумира,
к той, что не та, и к той, что та,
нам описали в стансах и в романсы
чуть упростив переложили стансы.
Но я вскричал, ломаясь и скользя:
где миг, когда кота терзали мысли,
глаза прокисли и усы повисли
и было двинуться ему нельзя?
Где перелом, который искра Божья?
Как уловить возможность в невозможном?
Когда мы живо и умно
так складно говорим про дело,
которое нас вдруг задело,
и опираясь на окно,
не прерывая разговора,
выглядываем легких птиц
и суть прочитанных страниц
как опыт жизни вносим в споры,
внезапно оглянувшись вглубь
дотла прокуренной квартиры,
где вспыхнет словно образ мира
то очерк глаз, то очерк губ
друзей, которые как мы
увлечены и судят трезво
и сводят ясные умы
над углубляющейся бездной,
тогда нас не смущает, нет,
тогда мы и не замечаем,
что просто слепо и отчаянно
стремимся были детских лет
и доиграть, и оправдать,
тому, что не было и было
дать смысл – так через ночь светило
зашедшее встает опять
(прецессия нам незаметна),—
на том же месте вновь и вновь
нас рифмой тертою любовь
клеймит настойчиво и метко,
а в ночь… ложись хоть не ложись!
устаревает новый сонник,
едва свою ночную жизнь
потащишь за уши на солнце,
но как прекрасно и свежо
на отзвук собственного чувства,
с каким отточенным искусством
весомо, страстно, хорошо,
на праведную брань готово,
остро, оперено и вот
надмирной мудростью поет
твое продуманное слово
и проясняется простор
на миг, но облачны и кратки
на нашей родине проглядки
светила вниз в полдневный створ
и потому-то недовольно
ты вспомнишь, нам твердят опять,
что нашим племенам не больно,
не так уж больно умирать.
«Утомителен волшебный океан…»
Утомителен волшебный океан,
пестр и выспренен петух индейский,
а судьба – его жена – злодейский
выклевала при дороге план.
Лом да вот кирка – и вся награда
за полеты грустные твои.
Рвутся от натуги соловьи
не за бабу – за кусочек сада.
Господи, да вправду ли хорош,
так ли уж хорош Твой мир зловещий,
даже если сможешь в каждой вещи
отслоить бессилие и ложь?
Читать дальше