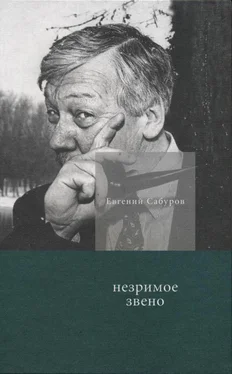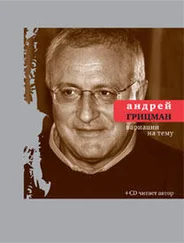Скажи мне ласточка
Скажи мне лисанька
Скажи мне кошечка
что я сам сказать не смог
«Ожидается смех, страсть и холод…»
Ожидаются смех, страсть и холод,
ожидаются лица неизвестные и известные,
ожидается некий как бы сколок
с того, что уже наносили вёсны.
Так в разговорах о близком будущем
мы остаемся беспомощны и одеты,
подозревая друг в друге чудище
и даже уповая на это,
потому что всё вокруг
так скулит и сердце гложет,
потому что самый друг
весь насквозь проелся ложью
так, что не может быть благого
теплого жилья-былья.
На оболганное слово
светы тихие лия,
огонек напольной лампы
не взыграет за щелчком —
будут только ели лапы
щедро пудрить за окном,
и богатая причинность
убежденно засвербит,
заскрежещет под овчиной
той, в которую закрыт
нос и торс, и форс твой зимний
в нежности не упасет
смех и страсть и холод. Синий —
синий под овчиной лед.
«Человек – какой-то дьявол, слово чести…»
Человек – какой-то дьявол, слово чести:
вывел кур без петухов, диетические яйца ест.
Сердце морем пучится и вести
ветер запахом несет окрест,
между губ моих произрастают розы
на грудь тем, кто в девках засиделся.
Человек – какой-то дьявол: сделал,
вытерся и вниз бумажку бросил.
Вот увидишь как из глаз полезут ветки,
и давай свисать плодами, накреняться —
это мощный запах носит ветер
это кошки продолжают красться,
а кошачий добрый доктор их
тот, который по десятке с носа на потоке
выскребал их жалкие протоки —
человек какой-то дьявол! – сник.
Мир вприпрыжку и припляску
кинет кости отлюбить
вашу душу под завязку
когда Бог даст телу быть.
«За баней девочка быстра…»
За баней девочка быстра
мошонку гладит вверх,
а мою руку запустила в нерв
у основания бедра.
А воздух густ,
а осень бессмертна как жизнь,
а ветки хлыст на ветру свистит. Уст
ее лепестки внизу сошлись.
И душа ее на теле
чавкала, звала, журчала
на огромном теле двух,
будто бы на самом деле
миром правит величаво
вольный и свободный дух.
«Язык новизны и содома…»
(на смерть Ю. Дунаева)
Язык новизны и содома.
Юру Дунаева убило машиной. Пьяный шофер.
А хороший был человек, хоть не все дома.
А Марина – позор. Позор.
Столько лет уже не живут вместе —
такая стерва! – сразу объявила, что она вдова.
Пока с переломанными костями Галя, его невеста,
в больнице, эта врезала замок и давай все продавать,
то есть всё, говорят, вплоть до ее босоножек,
а та с ним уже четыре года жила.
Ну, конечно не невеста, Господи Боже,
ну, конечно, жена.
И вот представляете, ляете, колебаете:
скульптор, Галя – скульптор, скульптор
кости переломаны, склеены, скляпаны
и вот ни работы, прописки, культи, культи.
У него только что вышла такая книжка о Боттичелли,
он в суриковском преподавал, она там студентка,
потому и не расписывались,
чтоб не было того-сего. Ясно. А эта
прикатила взяла его тело,
пока та лежала, из Ялты и все документы свистнула.
Господи, какая мука!
Господи, какая боль!
Наши цепкие подруги —
нет – и сразу входят в роль.
Это ж надо, Юра, Юра
денег в 3АГС не заплатил
штамп на паспорт не поставил.
Гале не ваять скульптуру,
пенсии ей не дадут,
Ялта, улица, минут —
а – А! – и лети себе, лети
ясным солнышком в чертоги,
а вокруг сады леса.
Люди, люди будьте боги
и чурайтесь колеса,
колеса судьбы и кармы
вы не бойтесь – благодать
все смывает даром, даром
даром же, ебена мать.
Как под этим страшным небом
веселится наш оркестр!
Мы живем отнюдь не хлебом,
с умилением на крест
глядя, прославляя, лая
от избытка сладких чувств.
Мы живем надеждой рая,
целованьем Божьих уст.
Широка и неприступна
православная страна,
Иоанн-пресвитер мудро
скажет кто кому жена,
на гобое, на фаготе
забезумствуют хлысты,
мы построенные в роты
одесную на излете
понесем свои кресты.
Читать дальше