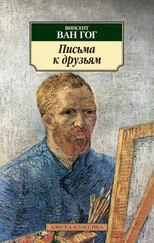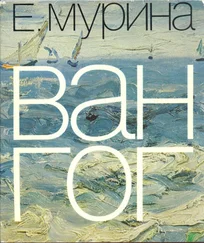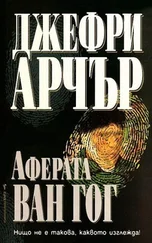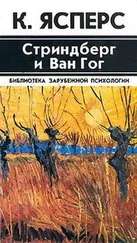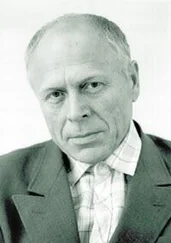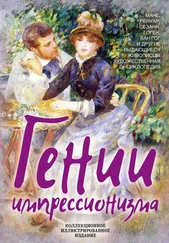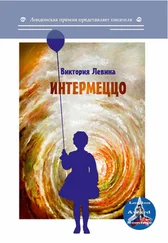Тебе – хранить пассаж душевных мук,
мне – уходить с душою потрясённой!
Кружит под потолком последний звук,
незримым ветром кверху унесённый…
после прослушивания октета для духовых инструментов Игоря Стравинского (1882–1971)
То русской попевкой, то вальсом, то скачкой,
то сальто Петрушки (трамбон и фагот) —
играют Стравинского… Начат враскачку,
октет, галопируя, залом идёт!
То вскрикнет кларнетом, то флейтою взвизгнет,
то яркой трубою закончит кульбит, —
живою водою остывшее сбрызнет,
атакой стоккатною зал окропит.
Как «кушать» её, эту музыку улиц,
с парижских балетов пришедшую к нам?
Событий тех лет дуновенья вернулись,
и Дягилев пальцем ведёт по усам…
Я где-то не в теме, я что-то не знаю,
я как-то бы меди умерила власть…
Играют Стравинского. Зал замирает.
И только на сцене – фактура и страсть!
после скрипичного концерта Вивальди в стенах Армянской церкви в Яффо
Я задыхаюсь! Музыка Вивальди
проникла в стены храма. Скрипачами
взлелеянные звуки – служат морю,
что за окошками колышется лениво…
Я пробиралась к вам, гармоний ради,
обычным жарким днём. А на причале
стояли рыбаки. И, ветру вторя,
колокола звонили в церкви у обрыва.
Нас собрала здесь доля иль случайность, —
две сотни обезличенных и сирых,
в сравненьи с музыкой, в такую мощь и святость
нас вовлекающей, что арки заструились
и задрожали! Нераскрытость тайны
Антонио Вивальди. Блеск и сила
старинных скрипок. И шероховатость
плит под ногами – воедино слились.
Служенью музыке, как Яффо – морю служит,
век обучались музыканты в чёрном.
Помеченные грифом, станом нотным,
они уходят с зачехлёнными смычками,
оставив тень Вивальди… Долго кружит
его концерт, в часовню заточённый…
Наружу – к морю! Тель-авивский потный
субботний вечер разливается над нами!
И если ты владеешь нотным станом…
после прослушивания Квартета № 3 для струнных Виктора Ульмана, задушенного газами в Освенциме в октябре 1944 года
И если ты владеешь нотным станом,
как станом девушки, прильнувшей в страсти нежной,
ты пишешь музыку и в «гетто образцовом»,
и место написанья – Терезин…
До «окончательных решений», город странный
раскинул улицы бараков тьмы кромешной.
Там, неопределённостью окован,
писал квартет «мишигене» [8] «мишигене» – сумасшедший (евр. разг.)
один.
Какая, к чёрту, неопределённость?
Задушен газами в Освенциме с семьёю.
Задушен вместе с песней и квартетом,
и оперой, написанной в стенах, —
не «плача на брегах рек вавилонских»,
писал, творил натруженной рукою…
Гуманным антропологом, эстетом, —
он музыкой судьбы ввергает в прах!
Мелодия его кричит и плачет,
потом тебя баюкает в бараках…
И теме ностальгической и нежной
противопоставляет гром сапог.
…Сегодня ночью, вновь огнём охвачен,
взывает Юг о помощи от мрака,
детей прижав к груди, бомбоубежищ
опять наполнив чрево… Вэйз мир [9] Вэйз мир! – бог мой! (евр.)
, бог!
Виктор Ульман (1898, Тешен – 1944, Освенцим) – австрийский и чешский композитор еврейского происхождения. Родился в еврейской семье кадрового военного. В 1909 году семья переехала в Вену. Изучал право в Венском университете, брал уроки музыки у Йозефа Польнауэра, сблизился с шёнберговским кругом. В 1919 году переехал в Прагу и по рекомендации Шёнберга поступил под начало композитора Александра Цемлинского в Новый немецкий театр, где прослужил в должности капельмейстера с 1922 до 1927 год, затем на непродолжительное время возглавил оперный театр в городе Усти-над-Лабем, но быстро вышел в отставку из-за чрезмерной для небольшого городка радикальности репертуара. В 1929–1931 годах был дирижёром в Цюрихе, увлекся антропософией, открыл антропософскую книжную лавку «Новалис» в Штутгарте, в 1931 году вступил в антропософское общество Чехословакии. В 1933 году магазин разорился, Ульман с семьёй вернулся в Прагу. 8 сентября 1942 года вместе с женой и сыном Ульман был депортирован в лагерь Терезин, где в течение двух лет сочинял и выступал с концертами в музыкальном театре. 16 октября 1944 года его вместе с женой перевезли в Освенцим, где через два дня умертвили в газовой камере.
Читать дальше