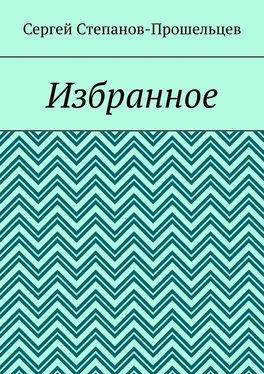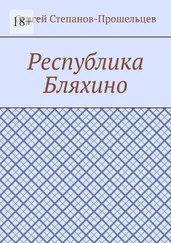в город дуплистых душистых лип.
Это, наверно, моя победа,
что никуда я ещё не влип.
Убереженьями жизнь шпигую,
только гореть мне в ином аду:
ведь из армейской тюрьмы в другую
с бухты-барахты я попаду.
Те же, по сути, нары с парашей,
те же данайцев хитрых дары.
Даже в просторной Вселенной нашей
есть лишь свобода черной дыры.
Сколько в безбрежье том ни скитаться,
ясно становится лишь одно:
всё управляемо гравитацией,
всё притяжению подчинено.
Этот закон много раз испытан,
правда, бывает такой зигзаг:
тянет нас к центру, словно магнитом,
но и отталкивает назад…
Ставрополь
Не жал комбат мне руку напоследок —
я был губарь со стажем, но уеду,
и я обнял весь мой стрелковый взвод,
и в поезд сел, отправившийся в девять,
и ничего, увы, не мог поделать
с улыбкой, что растягивала рот.
Я ехал долго. Были пересадки,
а за окном столбы играли в салки,
мое воображение дразня,
и в этом ритме ровного движенья
происходило к дому приближенье,
и замирало сердце у меня.
Восторг крепчал. Стремительнее пули
я вылетел, хмелея от июля,
лицо сияло, словно лунный диск.
Задев мешок, свалив какой-то ящик,
я отыскал автобус проходящий
с табличкой «Элиста-Невинномысск».
Урчал мотор. Я отодвинул штору —
и дух перехватило от простора
холмистого. Не верилось глазам.
То делалось мне холодно, то жарко:
мелькали Извещательный, Татарка,
и наконец он показался сам.
Здесь, у подножья Комсомольской горки,
повеял ветер влажновато-горький —
он был упруг, как в градуснике ртуть.
Он был отнюдь не робкого десятка —
он Пушкину распахивал крылатку,
такой же странник, чей неведом путь.
И в непрерывном колыханье веток
я обнимал тот непослушный ветер,
и были с ним мы лучшие друзья.
Он подсказал мне, этот ветер шалый:
есть города прекраснее, пожалуй,
но есть такие, без каких нельзя.
* * *
АВГУСТ 1968-го
В те дни мы просто были клонами
под управлением Смотрящего,
и всех нас строили колоннами,
как для прививки против ящура.
И некто в генеральском звании
нас удостоил высшей милости:
признался, что нас ждет заклание
во имя вечной справедливости.
Но чем ту справедливость мерили?
Какими славными победами?
Возможно, мы наивно верили,
что замполит нам проповедовал.
Но только в бой шли не баранами,
цепляясь за надежду хрупкую,
что нужно так…
Меня не ранило
и не убило в мясорубке той.
Нет, был не в Праге – в Братиславе я,
бродил, как призрак неприкаянный.
Меня нисколько не прославили, —
наоборот, вконец охаяли.
Но мне не надо вовсе звонкости —
всё это кажется пародией.
Я не вникал в то время в тонкости —
я верен был любимой Родине.
Мне много лет. Не скроешь пудрою
морщин. Покрылись мы сединами.
Но ничего нет в мире мудрого,
чем жить нам всем семьёй единою.
Мысль эта вовсе не порочная,
она давно не мною пущена.
Ведь если даже смерть пророчится,
она – за светлое грядущее.
Забудем все обиды мелкие,
когда беда нам в двери стукнула.
Но как одной измерить меркою
то, что на грани недоступного?
* * *
М.М.
Сядем молча за прибранный стол,
выпьем сразу не граммов по сто,
а, как в том азиатском бедламе,
по стакану за тех, кто ушёл,
кто не сел с нами нынче за стол,
но кто вечно останется с нами.
Быстро наши редеют ряды.
Что есть жизнь? Это вьющийся дым,
он обманет, как первые жёны,
не прибавит здоровья и сил,
и всё то, что в душе сохранил,
измочалит, как мельничный жёрнов.
Наливай же ещё и ещё,
чтобы затхоль и бедность хрущоб
мы забыли на время хотя бы.
Наши помыслы были чисты,
но вели к ним другие мосты
и не встретился с нами Хоттабыч.
А теперь… Что поделать теперь?
Впрочем, я не такое стерпел,
да и ты. Что об этом талдычить?
Потому-то и жизнь не пряма,
потому и приходит зима,
как охотник, что в поиске дичи.
Со мной навсегда
* * *
Коснёшься встревоженных клавиш —
и словно окутает дым.
Об этом словами не скажешь:
лишь музыкой мир объясним.
Но только откуда тревога
приходит опять и опять?
Как это безумно! Как много!
Как можно такое понять?!
* * *
На мгновенье забудь, что наш век суетлив,
что в прихожей не выключил свет, уходя, —
и услышишь давно позабытый мотив,
Читать дальше