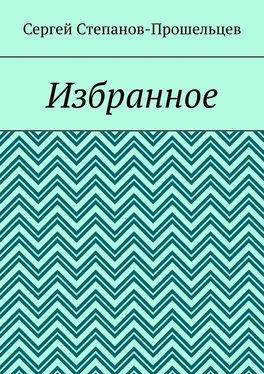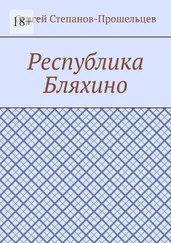Выводной, не томи, здесь звереют клопы,
я хочу подышать – ну, хотя б через раз.
Не осмыслят сие ни Платон, ни Декарт,
что отсюда транзит разве только в дисбат.
Это вроде купе, только это – плацкарт,
и страшнее чем это, быть может, лишь ад.
Вот и всё. Мне на жизни поставили крест,
и клопов легион наступает опять
к жениху, потерявшему столько невест,
что уже не способен за них воевать.
* * *
Не мог я совершить побег, не мог сбежать оттуда:
меня гноили на губе в числе гнилого люда.
Да, разношерстный тот народ был славой не увенчан:
кто пил, кто двинул в самоход, я был антисоветчик.
Я был заброшен натощак, как волк, в овечье стадо.
Я самовольно мыслил, как солдату и не надо.
Да много я встречал дерьма, так всё вокруг убого,
ведь наша армия — тюрьма, и разницы не много…
Я думал так, и в чем-то прав, наверно, был я вроде:
когда ты не имеешь прав, такие мысли бродят.
Когда не скрыться никуда от власти фанфаронов,
и попадаешь прямо в ад — во время фараонов…
Какой вираж, какой кульбит без пользы маломальской!
Но что-то там, внутри, свербит: ведь был тогда Даманский.
Один большой, сплошной бедлам, где не понять ни крошки,
и умирали парни там совсем не понарошке.
Увы, другого не дано, нельзя назад ни шагу…
Но как соединить в одно
и рабство, и отвагу?
* * *
Зачем всё это было? На что имелись виды?
Как псу под хвост, те годы, что в жизни много значат.
И вновь я задыхаюсь от горькой той обиды —
ведь всё могло сложиться, наверное, иначе.
Была альтернатива — у нас страна большая,
мы — не в тайге, в которой нет ощущенья дали
(прости меня, цензура, я тайну разглашаю),
мы рыли шахты там, где враги совсем не ждали.
В степи, где нет деревьев, где осушать болота
не надо с раскорчёвкой, а если посчитаем,
то это — подешевле, всего минуты лёта —
и вот уже ракета зависла над Китаем.
И – всё: Китая нету. И блиннолицый Мао
про мощь своих дивизий, конечно же, наврал нам…
Но не случилось это, и сберегли мы мало —
всё, что могли, украли плохие генералы.
И шахты зарастают сурепкой и кермеком,
и нет в том королевстве хорошего завхоза.
А мы застряли в прошлом бесплотной тенью века,
какой-то непонятной трагической занозой.
Зачем, кому служили? Генсеку было точно
до лампочки. Народу? Не знали мы покоя.
И здесь теперь болото. И выпь кричит истошно.
И этот крик наполнен смертельною тоскою.
Гауптвахта
1
Будили нас, когда едва забрезжит —
день световой свой график убавлял,
и улыбался нам с портрета Брежнев —
большой друган советским губарям.
Но там, среди своих кремлевских башен
в далёком том, застойном том году,
наверное, себе он верил даже,
всех призывая к честному труду.
Шумел ноябрь. Народ заполнил парки.
Был месяц, словно праздничный калач,
а этот труд был только из-под палки —
глядел мне в грудь нацеленый калаш.
И мы среди всеобщего загула
с носилками устроили конкур,
и конвоир — казах широкоскулый —
нам отменил законный перекур.
О, дарвинизм! Обман великий века.
В нём есть один существенный изъян:
труд обезьяну сделал человеком,
из нас он делал стадо обезьян.
Да, этот труд нетворческий, но всё же
и гауптвахта строит, и тюрьма.
Труд подневольный воплотиться может
в плотины и высотные дома.
Об это знали и Нерон, и Сталин,
но я не верю почему-то им,
поскольку этот мир пародоксален
и потому так дорог и любим.
2
Мне ещё надо в армии обжиться,
чтоб суть её я доосмыслить смог.
Домой поедут завтра сослуживцы,
я на «губе» мотаю новый срок.
Печёт вовсю июльская духовка,
но так морозно у меня в душе.
Я объявлю сухую голодовку,
поскольку снят с довольствия уже.
Лежу опять без всякого матраса,
без курева, обросший и смурной,
но не желает Армия расстаться,
поиздеваться хочет надо мной.
Она пугает ужасом дисбата,
что не приснится и в кошмарном сне,
и командир дивизии по блату
пятнадцать суток добавляет мне.
Но выбор был: с судьбой смириться, либо
продолжить бой, хоть не осталось сил.
Я был по-настоящему счастливым,
когда поверил в то, что победил.
Что позади бессмыслица и беды,
что не живу по правилам чужим.
И эта незаметная победа
была победой над собой самим.
* * *
Через неделю домой уеду
Читать дальше