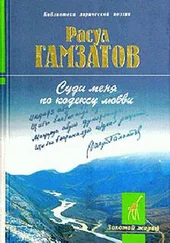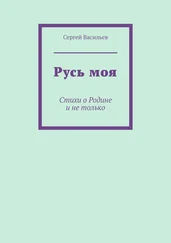Шьет Мария рубаху себе из холста.
Над Марией ночная висит темнота,
неподвижна. Лишь пламени чуткая тень
чуть качнется порой – и поскачут со стен
тень Марии, холста, тень иголки в руке,
тень свечи, тень печи, тень кольца в потолке,
на которой качается тень колыбели.
Спит младенец. Ах, как ему все надоели!
Как вы, Господи, все надоели ему!
Он проснется, уставится в теплую тьму,
что висит над Марией, над хижиной, над
колыбелью, над миром, который не рад
ни Марии, ни новой рубахе ее,
ни младенцу, над миром, что весь – забытье.
Что ему этот сморщенный отпрыск недельный?
И заплачет в своей колыбели младенец.
И Мария, склонившись, отложит шитье,
и качнет колыбель, и на чадо свое
поглядит, как на чудо, увидеть стремясь
эту легкую нить, эту дивную связь
меж младенцем, что страхом полночным влеком, —
и холодного берега черным песком,
и заплеванным пеной прилива причалом,
у которого лодку волною качало…
А когда за окном задрожит темнота,
и Мария рубаху дошьет из холста,
и послушные тени отпляшут свое, —
на мгновенье Марию возьмет забытье.
И она в небесах не увидит звезду
и волхвам не откроет. А те подойдут
и, тихонечко стукнув доскою дверною,
не услышав ответа, пройдут стороною…
Ах, у любви свои резоны,
свои златые купола.
Опять, тепла не по сезону,
зима зимы не сберегла.
Снега становятся водицей,
к земле спешившею зазря.
И радость пьяная светится
на мокрой морде января.
И я бы выпил белой водки
или хоть красного вина…
И осязаемо, и кротко
раздвинет облако луна.
Возьму и выпью, я не гордый.
В бокал литого хрусталя
плесну – и чокнусь с мокрой мордой,
свою тревогу оголя.
И вновь. И разобью посуду!..
Ах, дорогой мой пьяный друг!
Ведь сколько ни готовься к чуду,
оно всегда приходит вдруг.
Оно всегда наступит сразу,
и горло сдавит немота.
И заготовленную фразу
не смогут вымолвить уста.
…Ну вот, ну вот: стезей ведомы,
робки, возвышенны, тихи,
идут тропой, подходят к дому,
плащами скрыты, пастухи.
И – чу! – меняется погода.
Слеза застынет на бегу.
И белой стружкой с небосвода
прорехи скроет на снегу.
И мир, и суетный, и бренный,
прозрачным станет, как слюда.
Светает. Пахнет свежим сеном.
А в небе
теплится
звезда.
Симеон не может умереть:
он Христа покудова не видел.
Дверь в его холодную обитель
смерть никак не может одолеть.
Что же за тревога Симеону?
Он хоть стар, пожить еще не прочь,
аккуратно счет ведет поклонам,
молится и молится всю ночь.
И снедает тайная мечта
праведника в тишине обители:
вот бы никогда ему не видеть
этого блаженного Христа.
Так бы он и жил, другим на зависть,
и на убыль не пошли б года…
Но над Вифлеемом показалась
как-то ночью новая звезда.
Сделались и четче, и ясней
очертанья пламени над свечкой.
Пастухи, забыв своих овечек,
принесли младенца из яслей.
Все, что дальше будет, знал заране
праведник усердный Симеон:
в Иерусалимском Божьем храме
нового Христа увидит он,
и тогда возьмет его Господь
и зачтет молитвы и поклоны…
Ах, как не хотелось Симеону
покидать дряхлеющую плоть!
Но, когда к назначенному сроку
в храм внесли младенца, – пьян от слез,
Симеон, назначенный пророком,
вслух ему осанну произнес.
После вышел и не оглянулся,
промыслом Господним угнетен.
Той же ночью лег и не проснулся
праведник усердный Симеон.
Здесь так тихо и благостно так.
Солнце яркое, небо пустое.
Пахнут яблони терпким настоем,
утопает рябина в цветах.
Все струится желанием жить,
все стремится достичь совершенства.
И при помощи слова и жеста
ничего невозможно решить.
Ничего невозможно понять
в щебетании птичьем беспечном.
«Мир достроен, но жизнь бесконечна», —
очень просто на веру принять.
Очень просто поверить в себя
и в себе разобраться – и ахнуть.
Ах, как яблони искренне пахнут
и рябины цветами рябят!
Очень трудно сюда не прийти,
а придя – очень просто остаться,
с маетой повседневной расстаться
и былинку покоя найти.
Но прошел ветерок, и увлек
за собою мечтанья пустые.
И посыпались с яблонь цветы. И
я вспомнил, что путь мой – далек.
Читать дальше