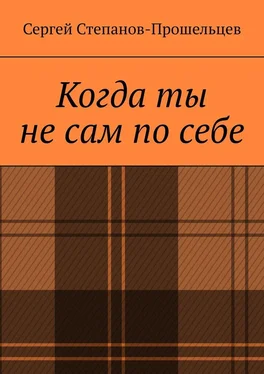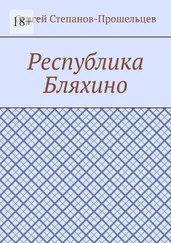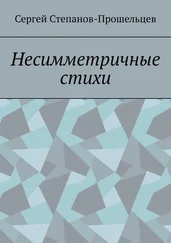Ты прости, что мне снится,
прости мне, страна,
тот безумный,
тот тридцать седьмой.
* * *
Этот счёт не приложишь к оплате —
задолжал я за это и то,
и, коль я никого не оплакал,
то меня не оплачет никто.
Я не знал, где быстрины и мели,
нарезая по жизни круги,
но в душе доброты не имея,
трудно жалости ждать от других.
Не до смеха теперь, не до смеха
я попал в непростой переплёт.
Спохватился, да поздно: уехал
поезд мой на столетье вперёд.
И никто не посмотрит с укором,
всё сокрыто в тревожном дыму,
и машу я, прощаясь, рукою,
вероятно, уже никому.
* * *
Снова кисточка рассвета
в краску алую макает,
вновь от тараканьей этой
я тоски изнемогаю.
Выйти б вновь туда, где брагой
пахнет вольный ветер южный!
Надоело быть оврагом
никому совсем не нужным.
Но другого я не стою,
это, видимо, расплата —
неразлучным быть с бедою
от заката до заката.
В комнате всё тот же абажур,
ветер занавеску изорвал…
Я отвыкшим голосом скажу
напрочь позабытые слова.
Здесь не слышно воя бензопил,
здесь печаль, как первый снег легка…
Ты пойми: я тот, кем раньше был,
если изменился, то слегка.
Головой вот только побелел…
Но, как сердце радостью не грей,
та печаль, которой я болел,
как собака, ляжет у дверей.
* * *
Белую кипень сорвало с чёрёмух
выстрелом грома. Как нищенки эти,
жизнью платил я за каждый свой промах,
счастье меняя на снег и на ветер.
Лунным стеклом застывали лиманы
в жёлтом желе многотонного ила.
Алой водою заря обливала,
лучиком робким звезда мне светила.
Шел я за нею, с дороги сбиваясь,
словно в какой-то нечаянной роли,
чувствуя в сердце щемящую зависть
к ветру, чей путь не подвластен контролю.
Так бы лететь, не изведав покоя,
солнечной тенью и облачным дымом,
не понимая, что это такое,
что это значит —быть вечно гонимым.
* * *
Эта тюрьма вобрала
время почище губки,
страхи чужих бессонниц,
ужас больных ночей.
Как сквозняки,
здесь бродят по коридорам гулким
призраки заключённых,
призраки палачей.
Смотрят они мне в душу,
хоть и пусты глазницы,
Видимо, ждут поддержки
в призрачной той борьбе.
Господи! Дай мне силы,
чтоб я не смог присниться
этим слепым кошмаром,
прежде всего, себе!
Дверь распахну пошире.
Вырвусь на свежий ветер.
Это – всего лишь глюки.
Душный такой рассвет.
Где ты, моя удача?
Знаю: на этом свете
нету уже заборов,
но и свободы нет.
Мы – зэки. Мы — каждый сам по себе
* * *
Развод по утрам. Поверка. Отбой.
Убогий лагерный быт.
И думы о воле – даже во сне,
если ты можешь спать.
И время – как бык, что ведут на убой,
но он еще не убит.
И вовсе не скоро случиться весне —
месяцев через пять.
Снега…
Все на свете белым-бело,
а жизнь, как хина, горька.
Она рядится в серый бетон,
прячась, как троглодит.
От стужи судорогою свело
скулы жилгородка,
как будто, от скуки зевая, он
челюсть свою проглотил.
Дебильные лица. Ухмыл кривой.
Девятый штрафной отряд.
И белое облако, как привет
от солнечных звонких лет.
И птицы летят, но для них конвой
неведом. Они летят
туда, где замков и решёток нет,
где ветер и яркий свет.
* * *
Пахнет с воли солянкой –тошно.
Тащат с рынка морковь, картошку,
из авосек точит шпинат.
Здесь, как раньше, с харчами тяжко:
заблудившуюся дворняжку,
втихаря отварив, едят.
Нынче —праздник. Потом —по-новой
миска каши в обед перловой
и баланда –одна вода,
никаких тут куриных грудок,
и тоскует пустой желудок,
как узбек на бирже труда.
Где-то жарят картошку с салом…
Лом хватаю, чтоб легче стало,
бью по камню —таков мой крест.
Нет лекарств эффективней лома!
…Выйдет срок мой – полгастронома
съем, наверно, в один присест.
* * *
Дух портяночный. Топятся печи.
В пищеблоке порхает мука.
Смертным боем – и в зубы, и в печень —
в умывальнике бьют должника.
Он не выдержал зэчью проверку,
дал слабинку, и вот он, итог:
задолжал он четыре конверта,
только письма отправить не смог.
Читать дальше