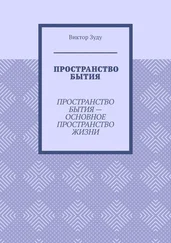Но склониться пред этим чудом
до того, как вечный покой
подойдет… Есть язык покуда,
искареженный, но живой.
Старая, старая сказка: избушка ль, сарай,
передом к нам повернись, приюти постояльцев…
С первым дыханьем не мы выбираем свой край —
он принимает заблудших, гадая на пальцах,
что за сюжет их мотает. Как перекати-
поле, роимся вокзалами, в аэропортах
дремлем, кося на вещички. Какие пути
жаждущих нового тянут то к богу, то к черту?
Как оказались мы здесь, полубеженцы, по-
луэмигранты, спасая ребенка заране
от обезумевшей родины, торной тропой
тоже решив раствориться в другом океане —
в одноэтажной Америке? Та же зима,
разве чуть мягче, короче, зато остальное
почеловечней устроено, даже сума
не отощала настолько, чтоб числить в изгоях.
Маленький город, где колледж – единственный свет.
Несколько тысяч студентов. Река. Профессура.
Озеро – целое море, отличие – нет
соли, а галечник, волны – такая ж текстура.
Госпиталь есть для окрестностей. Сестры. Врачи.
Интеллигенция в общем, хотя работяги
вряд ли уступят в житейском. Но как ни кричи
в темень – на улицах пусто, лишь в барах ватаги
смутных. Семейный народ по домам по своим.
В провинциальной Америке скучно немножко:
в окнах темно к 10 – на работу с ранья. Но сидим
заполночь, те же друзья и Луна над окошком.
Поздний приют полюбил я при скромности всей
встречных в пути, но такой красоты пейзажа…
Город заштатный, где местные власти музей
мой не откроют, наверно. Что ж, как-нибудь слажу.
Что-то не пишется. Грустно. Да и не живется.
Так лишь, в полжизни, и то по утрам. А когда
к полночи ближе, как будто в глубоком колодце —
темень да тишь, словно насмерть уснула вода.
Все? Отработал? Ни лавра, ни лиры – пустая
дней тягомотина, выданная благодать
в форме безделья. Собака соседская лаем
чуть отвлечет, и опять за английским дремать.
Творческий кризис нагрянул нежданно? Зима ли
пыл остудила? Недавно: рассвет лишь – блокнот
в руки, к окну, где светило вставало, детали
не умещались в привычные рамки длиннот.
И на дорогу, схватить ускользающий промельк
мысли, росою сверкнувшей под первым лучом.
Как все казалось неважным, нестоящим, кроме
этой минуты, когда и конец нипочем…
Месяц всего-то назад, ну, пусть два промелькнули,
и как отрезало. Все потускнело вокруг.
Сердце поэта заблудшего жаждало пули
так же ль, как два (до и после) глядели на крюк?
Что здесь первично? вторично? Заложники ритма,
где словоблудье с живым еще пульсом роднит,
время отрыва подходит… А если молитвой
стих не случится – путь к высшему напрочь закрыт?
Как дисгармония мира, февраль нескончаем,
реки мелеют: уже Ахерон переходится вброд,
сгинул охранник. Терпенье дотянет до мая?
Смутно. И тело уже от души отстает.
2
Не выношу я поэмы киклической, скучно дорогой
Той мне идти, где снует в разные стороны люд,
Ласк, расточаемых всем, избегаю я, брезгаю воду
Пить из колодца: претит общедоступное мне.
Каллимах, составитель «Каталога Александрийской библитотеки»
Шестого февраля пришла зима.
Шел год 16-й начала третьей эры.
Узнать, кому был близок Каллимах,
отец библиографии, манеры
не позволяли – слишком был далек
учености налет александрийской.
С поэзии ж его лишь сотня строк
осталась и скорее для приписки
к тем профессионалам, что пришли
чрез толстые буклеты антологий.
Не выпало иначе – исполин
начитанности брел не той дорогой.
Поэзия легка, ее накал
не только в содержании на деле:
Арес был туп, как всякий генерал,
еще Гомер певал, зато в постели…
Как двух слиянье душ – всего пролог:
любовь любовью, только жаждет тело
еще чего-то, что Гефест не смог.
Слегка лишь Афродита покраснела…
Возможно, не об этом он читал,
край созерцая нефтяного шельфа.
Прикинуть, сколько желтый тут металл
нагрел бы рук… Он верил в Филадельфа
как в справедливость, не склоняясь ниц
и сохраняя право неучастья,
где книги еще как горят! «Таблиц»
остался свод, ну, и стихи, к несчастью…
Читать дальше

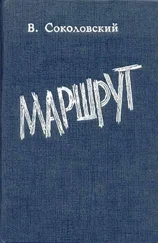




![Лазарь Лагин - Детская библиотека. Том 46 [Лазарь Иосифович Лагин]](/books/401001/lazar-lagin-detskaya-biblioteka-tom-46-lazar-io-thumb.webp)