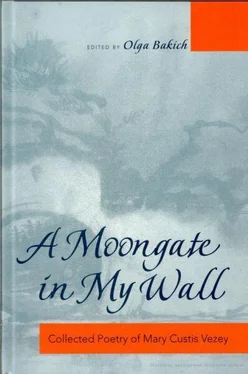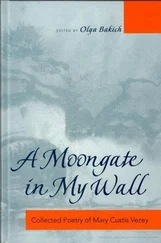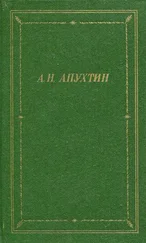Над Тобою голубь белый вьется,
благостен Твой лик и речи сладки.
Вот, я пью от Твоего колодца
и Твоих одежд целую складки.
Даже в самый страшный час. в пустыне,
где земная тварь едва жива,
я Тебя запомню, и отныне
утолят меня Твои слова.
Только, Боже, для чего Ты создал
нам глаза печальные такие,
вместо сердца положил нам звезды
и велел нам песни петь людские?
167. «У тебя на солнце зреют фиги…»
У тебя на солнце зреют фиги
в островном тропическом саду.
Я к тебе на легком белом бриге
по морям серебряным приду.
Оттого, что слишком ты мне нужен,
брошу якорь в золотое дно
самой тихой бухты, где жемчужин,
как любви в душе моей, полно.
И когда в стремительной пироге
на песок швырнет меня волна,
о, твои глаза не будут строги!
Ты поймешь: и я тебе нужна.
168. «Возьми меня в аэроплан…»
Возьми меня в аэроплан
и подымись со мною выше,
над пестрой картой здешних стран,
до самой до небесной крыши.
Ты будешь опытный пилот,
и я тебе доверюсь смело,
с тобой отправившись в полет
до осиянного предела.
В холодных, белых облаках
мы будем оба — точно птицы,
нам непонятен будет страх
и не захочется спуститься.
Вон, там, зеленая, земля,
а выше — небо, смерть и слава,
неосторожная петля —
и мы, как камни, канем в травы!
И людям, с болью на лице
рыдающим внизу над нами,
не знать, что о таком конце
взмечтали души наши сами.
169. «Ушел, блистая парусами…» [105] Later included in Golubaia trava, p. 16, under the title «На берегу».
Ушел, блистая парусами,
и я одна на берегу
пустыми, долгими часами
свою лачугу стерегу.
Луна взойдет — и не укажет
своим лучом, что ищет зря
корабль, который тенью ляжет
на слишком дальние моря,
и даже думать я не смею,
что можно птицей белой пасть
к нему на дрогнувшую рею
и на обрызганную снасть.
170. «Иду одна. Большое поле…» [106] Later included in Golubaia Irava, p. 13.
Иду одна. Большое поле,
кругом цветы, трава, трава.
И нет в душе привычной боли,
лишь пустота и синева.
Как будто кто-то тронул тихо,
промолвил: «Ты теперь в раю,
не поминай, — не надо, — лихом
нечаянную жизнь свою!»
И я поверила; не стала;
сдержала бурю горьких слов.
Но — Боже! — как ужасно мало
пустого поля и цветов…
171. «На синем небе белая звезда…»
На синем небе белая звезда
горит, не меркнущая никогда,
а на земле — ненужные труды
и вечный призрак страха и беды.
Оставь твоих друзей, забудь свой дом,
взмахни своим слепительным крылом, —
вон, там зовет звезда твоя: она
светлой мечты, великолепней сна!
172. «Самарянин, меня ты поднял в поле…» [107] Later published in the journal Delo, San Francisco, no. 3,1951, and then included in the collection Golubaia trava, p. 18, under the title «Самарянин», for which see Luke 10:33.
Самарянин, меня ты поднял в поле,
остановившись на пути своем,
елей целебный мне на раны пролил
и внес меня в благословенный дом.
Цветут поля, поют в деревьях птицы,
и с ласкового неба смотрит Бог.
И я живу, — чтоб о тебе молиться
за то, что ты пришел и мне помог.
173. «Ты от меня уехал снова…» [108] Later included in the collection Golubaia trava, p. 20.
Ты от меня уехал снова,
тебе с другими веселей:
ты в шуме города большого
не слышишь песенки моей.
В тени своих бетонных зданий
в лучах неонова огня,
я знаю — ты в воспоминанье
недолго сохранишь меня.
Но я почти что не тоскую:
вон звезды новые зажглись!
Как наглядеться на такую
бездонную ночную высь!
174. «Я слышу странные мотивы…»
Я слышу странные мотивы,
и сны мне видятся, когда
дрожат серебряные ивы
на грани синего пруда.
О, я в глуши пустого сада,
где месяц — шелковый фонарь,
бываю так тревожно рада
подумать о тебе, как встарь!
Там травы ласковые встали,
цветы взросли со дна болот,
там тише боль людской печали
и голоса дневных забот.
И там, где тонких ив побеги,
в холодной и зеленой мгле
поют слова твоих элегий,
сладчайших на моей земле.
Читать дальше