Да нет, я люблю ее, лучезарную Русь,
И никуда не уеду – ни в Лондон и ни в Париж.
Только все чаще меня накрывает грусть
Оттого, что ты, Россия, во тьме паришь.
У меня оскомина на эту веселую прыть —
Прав Мандельштам: у нас в крови блуд труда.
Можно всю жизнь не делать, а говорить —
И беспечальным сделаешься тогда.
Я по ночам от обид и боли ору —
Потому что смешна мне чиновничья злая спесь.
Знаешь, Россия, когда-нибудь я умру,
Но тогда пусть меня похоронят здесь.
«Сталинград-то хорош, а Волгоград…»
Сталинград-то хорош, а Волгоград
Хуже, наверное, во сто крат —
Ничего не найдешь хорошего.
Даже мамка скорбит от великих обид,
И пусть здесь давно никто не убит,
Земля помнит кровавое крошево.
Из окопа, заросшего пышной травой,
Прорастает солдатушка неживой —
Мир не должен быть одноразовым.
И у девушек кругом идет голова
Оттого, что воскреснут все однова, —
Я согласен с Виктором Некрасовым.
Не измерить сегодняшней лжи длину,
Но теперь мы не у фашистов в плену,
Мы теперь в плену у купечества.
Я-то знаю, что будет потом, наперед:
Государство умрет, и страна умрет
И останется только отечество.
Или память о нем – хорошем таком,
Что заплакать хочется вечерком.
Что с того, что мы хулиганили?
Лишь бы оно не ушло на дно,
Словно Китеж, лишь бы жило оно,
Лишь бы мы его не испоганили.
Кто бы знал, откуда взялся Крит
Среди Волги. Греков-то совсем
Никогда здесь не было. Однако
Кто-то был – не зря вода горит,
Осквернясь существованьем всем
И не зная солнечного знака.
Волги нрав тревожен и суров —
Стенька Разин, да, хорош собой,
Но живет как в оркестровой яме.
Что ты знаешь, кроме осетров
И княжны, ужаленной судьбой,
И татар с унылыми ладьями?
Переплыли, да. А что потом?
Плеск волны, забывшей мзду и ложь,
И убийства сплошь, и сплошь пожары,
И отравленный стрелою дом,
И обманы несусветны сплошь,
И они, раскосы и поджары.
Я гляжу на этот желтый Крит
И опять по берегу брожу —
Мне и Бог дорогу не укажет.
Знаю, завтра Крит заговорит —
Будет все понятно и ежу,
Знать бы только, что тогда он скажет!
«Вот дождь, который стоит стеной…»
Вот дождь, который стоит стеной,
Вот молний вечные глыбы,
И плывут над тобою и надо мной
Эти странные рыбы.
И твой дом горит, и земля горит,
И небо чего-то ради.
И горит по-над Волгой песчаный Крит,
Плача о Сталинграде.
И опять война, словно волчья кость,
В горле страны застряла.
И вбиваем мы в сердце железный гвоздь,
Перековывая на мечи орала.
На горе растет осина,
На пригорке иван-чай.
Вспомни, мамушка, про сына,
Не грусти и не скучай.
Глянь, хорошая погода,
Песню плачет соловей.
Я ведь не бывал три года
На могилке на твоей.
Воронье летит к оврагу
Дружной хищною гурьбой.
Ты прости, но я прилягу
Только рядышком с тобой.
«Дни июльские слишком долги…»
Дни июльские слишком долги,
Чтоб слепой запомнился дождь.
Пароходы плывут по Волге,
Ежик прячет в стогу иголки —
Там ты счастье свое найдешь.
Кот Чеширский с мышкой играет,
Баба в луже белье стирает,
Жаба плещется в камышах,
А на дне речном загорает
Кто-то важный, как падишах.
Приглядись и не то увидишь —
Там на дне и танки, и Китеж,
И зачем нам Новый Завет,
Если мир перешел на идиш,
Как троллейбус на красный свет.
Плачь, голуба, о нашем сыне,
О забывшей Христа осине,
Но гляди: как ни странно, но
Свет горит еще на Руси, не
Пожелавшей пойти на дно.
«Барин, сердито выбритый и надушенный одеколоном…»
Барин, сердито выбритый и надушенный одеколоном,
Честные бабы с гостинцами да мужики с поклоном,
Привкус моченых яблок, тяжелый запах укропа —
Где, Чаадаев безумный, твоя Европа?
Тощие звезды над кладбищем да тараканы в баньке,
Повести Белкина вечером на хуторе близ Диканьки,
Бедная Лиза, выстрел, охотники на привале —
Им-то, небось, вольготно, а мне едва ли.
Вере Павловне снятся сны, а кому-то – мертвые души,
А крестьяне дремлют в стогу, затянув поясок потуже,
Спит на перине Обломов, борща не вотще отведав,
И возлежит на гвоздях, словно йог, Рахметов.
Читать дальше
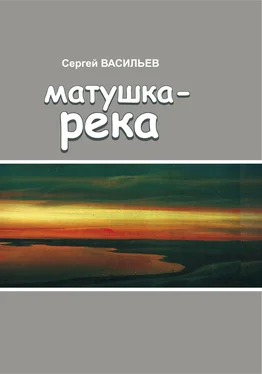









![Сергей Васильев - Большая река в каньоне [СИ]](/books/426400/sergej-vasilev-bolshaya-reka-v-kanone-si-thumb.webp)

