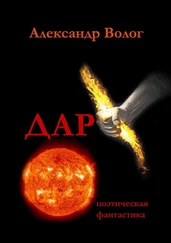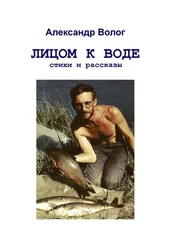В тусклом времени, как в тихоструйном ленивом потоке,
Их вращает судьбина, колышет пустяк…
Никогда не живут короеды, жуки, древоточцы
В слишком плотных, до гулкости твёрдых костях.
Чем-то собраны вместе, они не составили круга,
Не сошлися в ячейки случайных семей.
Им, похоже, не надо общаться и даже друг с другом,
Ибо каждое знает само по себе…
Мне приснилось сегодня название: Клуб однолюбов;
Серый дом, где входящие в дверь не стучат,
Где не ждут ничего пожилые спокойные люди
И молчат – удивительно чисто молчат.
Мне подарили голоса и звуки,
И этот дар невидимо со мной.
Я слышал – на ветру шумят бамбуки,
Звучанье сямисэна за стеной,
И моря гул, и лёгкое паденье
Иглы сосновой в ласковый песок,
И вздохи рассыхавшихся досок,
И ветер, замолкавший в неведенье,
Над лёгким домиком под хрупкой крышей,
На перепутье множества путей…
Линяли краски яркие затем,
Что слишком громкий цвет мешает слышать.
И контуры утратили рисовку,
И линии растаяли в тушёвке,
И зримый мир тускнел и уходил,
Поскольку только видимостью был.
Но всё же грусти не было со мной.
Был шёпот, и ласкающие руки,
И на ветру шумящие бамбуки,
И сямисэн – за тоненькой стеной…
Перевал через полночь,
где времени ветер вещает
и пророчит о том,
что не видно ещё за горой…
Обрастаю людьми,
как иной обрастает вещами.
Окруженьем оброс,
как сосна обрастает корой.
Но сейчас
продувает с вершины сквозная тревога
и знобит,
освистав назначенье моё на земле.
Может я – лишь лишайник
на кряже у Господа-бога
и чешуйка коры
на великом вселенском стволе?
На ночном перевале,
где ветра глагол постигаешь,
измеряешь судьбу,
и нельзя ни придать, ни отнять…
И чешуйка-сынок,
прирастая к плечу, засыпает.
И смолинка-слеза
невзначай прошибает меня.
По весне за плотвой шершавою,
Электричкою предпоследнею,
Дальше – влажной апрельской просекой…
Два попутчика запоздалые,
Два фонарика светят бледные,
– До реки доберёмся до свету?
– Доберётесь. Так прямо и топайте!…
Обогнали – высокий и низенький —
В разговор погрузившись свой.
Долетают слова – не шёпотом,
Издалёка, а вроде близенько.
Я давно не слыхал тех слов.
И как будто за ними двинулось
Молчаливейших елей воинство,
Выходя из рассвета серого.
А слова звучат по-старинному,
Так как некогда:
Честь,
Достоинство,
Право-судие,
Мило-сердие…
Не впереди, не сзади,
а где-то в середине,
шагаем мы в отряде
и видим только спины —
тугие от работы,
на солнце побелёны,
пропитанные потом
горячим и солёным.
Волну плечей колышет,
впивая взгляда жженье,
трапецевидной мышцы
упрямое движенье.
Невидимые лица,
непомнимое имя,
забытые страницы,
но мы идём за ними.
И как бы нам ни трудно
в предожиданьи битвы,
мы знаем, что покуда
мы спереди прикрыты.
Какая б ни засада,
какие б там ни мины,
но мы пока что сзади,
пока мы видим спины…
Но реже их завеса,
всё больше видно брешей,
теперь уж не надейся
на редких уцелевших,
вставай в шеренгу с ними,
и речь не о награде —
упёрты в наши спины
глаза идущих сзади.
Когда набег валов и вихрей страшен,
И ходит ходуном земная твердь,
Есть негасимый свет маячных башен,
Как память о любви и о добре.
Есть воля, не играя с бурей в прятки,
Влезать по лестнице, витой как смерч.
Есть человек, всходящий на площадку —
Фонарь надежды в грозный час зажечь.
И есть высокая необходимость
Под дуло ветра подставлять висок,
Встречать лучом удар лихой годины
И пену зла стирать со лба и щёк.
Моим однополчанам посвящаю
Вновь локомотивы и вагоны,
Да летящий мимо дым.
Эшелоны, эшелоны, эшелоны,
Отданные молодым.
С четырёх сторон – лихие ветры,
Солнце нас берёт в прицел,
И подаренные километры
Нижутся на нити рельс.
На плечах не груз – двадцатилетье.
Быть или не быть – не нам вопрос.
Вот промчался, разгоняя ветер,
Встречный электровоз.
Читать дальше



![Таисия Пьянкова - Берегиня [с иллюстрациями]](/books/423084/taisiya-pyankova-bereginya-s-illyustraciyami-thumb.webp)