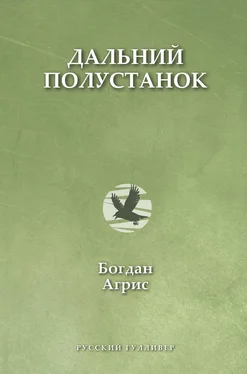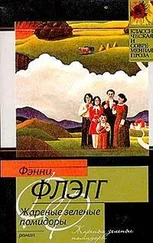На железнодорожной тишине,
Где рядом – камышовый острый шелест,
И звёзды косяком идут на нерест,
И сосны подымаются к Луне, —
Так вот, на ти ́ ши железнодорожной
Свои мы пишем песни осторожно.
Как глаз циклопа, смотрит семафор.
В глуши пруда – лягушачья бравада,
И тянется тысячелетья кряду
Вдоль времени пологий косогор.
Еще раз – пишем мы на тишине,
Что рельсами сквозь зренье протянулась,
Но не захолодела, не замкнулась,
А стелется туманом по стерне,
Заходит в сёла, где проулки кривы,
И дремлет у корней огромной ивы.
До срока поезда отменены.
Ночь ладится напористо и споро.
Разбрасывает папоротник споры.
Доносит ветром запах белены.
А близ платформы – росчерки рябины
Да гомон затяжной и воробьиный.
И мы уже не верим в поезда
И в города далёкие не верим.
И зренье обостряется по мере
Того, как разгорается звезда.
Оно недаром: на вершине лета
Мы обнаружим – зренье стало светом.
«Как тополь врастает в проулок осенней воды……»
Как тополь врастает в проулок осенней воды…
Суставы его – в шаровидных наростах омелы.
Ложится окрестность в сентябрьский окраинный дым,
Становится им, – и не диво, что сносит сады
Любым сквозняком в мельтешенье небесного мела.
Вскрывается осень внутри кругозора вещей.
Вздыхает уклончиво, ширится шероховато…
Стрекозы карбона растут в пустотелом хвоще:
Священный порядок становится втрое священ,
Когда понимаешь – и он был моложе когда-то.
Возводится время, как дышащий некий чертёж.
(Идут поперёк осторожные пульсы пунктира.)
В его лабиринтах нельзя запропасть ни за грош.
Уже погибаешь, – а в новую эру шагнёшь
И выйдешь живым в незнакомые области мира.
А тополь – он тоже уходит в проём сквозняка,
Шагает легко и на осыпях держится стойко.
Он в новой стране потечёт, как большая река,
И будет порой на его моложавых руках
По ранней весне веселиться проказница-сойка.
Вдруг оказавшийся в моём засадном взгляде,
Охотник, предок, ты – ты здесь всего лишь гость.
Холодные холмы лежат в твоём укладе,
И в темноте, глядишь, опять с тобой поладит
Тень мастодонтова, в свою вернувшись кость.
Бери же эту тень, веди её на тропы.
Пойдёте вы вдвоем к уклончивой звезде.
Внизу увидите иных становищ опыт —
Кварталы точные классической Европы:
Перо очинено, и шляпа на гвозде.
Как верхняя тропа тебя переменила…
Камзол, парик, и трость, и верный мажордом.
Но стоит в кабинет – и пресвятые силы! —
Уходит мастодонт в готовые чернила,
Как будто в них всегда был стол его и дом.
По стану нотному вприсядку заплясали
Кривые дротики, и птички, и крючки.
…Смотри, как твой тотем растёт в стеклянной зале:
Пустоты флейт его пока не растерзали,
Но копьями глядят мгновенные смычки.
Ещё, ещё, ещё! Куда несётесь, годы?
Созвездий контуры уже изменены.
Чьи лица проросли в садах такой свободы?
И что за городов неверные обводы,
Как первобытный страх, встают из-за спины?
А ветер из степи окатывает лица
Огромною водой чудовищных чудес.
И рушится весна на новые столицы,
Чьи контуры в зрачок взяла уже-не-птица…
(И сделает ещё их выверенный срез.)
Но ты бросаешь текст, дойдя до середины, —
Я в продолжение не буду посвящен.
Вы возвращаетесь в промозглые равнины,
Где наших городов померкшие руины
Возможно, попросту не найдены ещё…
«Только ночью на Самайн они оживают, когда…»
Только ночью на Самайн они оживают, когда
Лунный луч бередит их наскальные злые портреты.
И недоброй ордой забредают они в города,
И лихие тогда начинают сбываться приметы.
Мы во власти у них до поры, как не выспится день.
И я вспомню с утра, – но и это я вспомню не сразу, —
Как убитый бизон поднимал на рога мою тень
И сверлил моё сердце раскосым и горестным глазом.
О собственном дожде зачем поёт вода?
Зачем прозрачных птиц проходит череда
Сквозь срезы времени и лунные проливы?
Зачем сады зеркал в их световых порывах
Так опрометчиво карабкаются вверх?
Зачем так ветрено в зеркальных тех садах?
И кто их взращивал настолько кропотливо?
Зачем так холодно в садах двояких тех?
Читать дальше