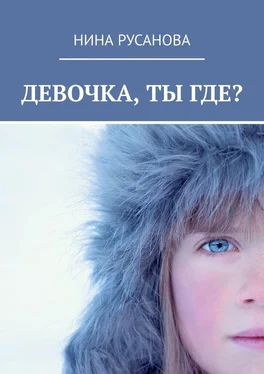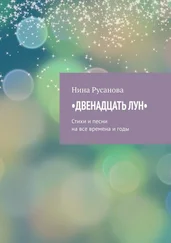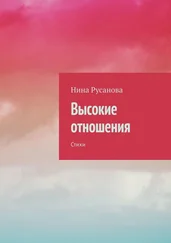А другая история о том, как однажды та же соседка напекла печенья и спрятала накрытую полотенцем, а сверху «для верности» ещё и газетой, тарелку со свежей выпечкой под свою кровать, к стене, в самый дальний угол, откуда, несмотря на все эти ухищрения, всё равно пахло редким, почти невозможным в те годы, лакомством – тёплым ещё! – упоительно до полного умопомрачения.
Стоит ли удивляться тому, что при первом же удобном случае, когда в комнате не было никого из взрослых (Лилю оставили присмотреть за спящим младенцем), она полезла под соседкину кровать и тарелку эту «нашла». Не остановили её ни дальний угол, ни чистое полотенце, ни даже газета. Ни спящий на кровати малыш. «Догадавшись» о том, что драгоценные печеньица хозяйкой наверняка тщательно посчитаны-пересчитаны и что если она, Лиля, съест хоть одно из них, это тотчас бросится в глаза, более того – сразу станет понятно, кто именно съел, и что её, Лилю, обязательно накажут! – девочка решила все печенья обкусать : по краешку, совсем по чуть-чуть, но равномерно, по всему периметру, ровненько, очень аккуратно… – и тогда уж точно никто ничего не заметит. И не накажет. Обкусать. Что она и сделала – лёжа тут же, под кроватью, в пыли, темноте, тесноте и духоте… В духоте, но в какой ! – в такой аппетитно-душистой духоте, что и задохнуться не страшно!
А ведь и было – страшно. Лиля помнит, как соседка неожиданно зачем-то вернулась: ноги в серых чулках и стоптанных башмаках прошаркали по комнате, встали посреди неё в замешательстве, удивившись, видимо, отсутствию «няньки», но вслух при спящем младенце ничего говорить не стали… затем приблизились к самой-самой кровати… что-то там поправили… ребёнок угрожающе закряхтел, просыпаясь… и тогда ноги сели его укачивать. Да и не только ноги уселись. На кровать. Отчего та провисла чуть не до пола! Хорошо, что тарелка с печеньем стояла в самом дальнем углу, а худышка-Лиля притаилась у самой-самой стены – иначе соседка села бы прямо на неё! Всё это время девочка лежала, не шелохнувшись, замерев от страха, задержав дыхание перед тарелкой с ароматно-песочными кружочками, которые всё ещё тепло и нежно дышали ей в лицо… а половина из них уже была ею обглодана. Лежала, опасаясь чихнуть ненароком (в носу моментально засвербела вся «подкроватная» пыль) или кашлянуть (в горле внезапно запершили все «печенные» крошки). Лежала, сглатывая слюну и более всего на свете боясь, что вот-вот, сейчас в желудке у неё, не сытом, но лишь раззадоренном нечаянным (но и не вполне невинным), не совсем предумышленным (но ведь никем и не дозволенным) пиром, оглушительно заурчит.
А что было дальше: куда девалась соседка (и девалась ли?) и как она, Лиля, вылезала, отряхивая пыль с живота, локтей и коленей и оправляя мятое платье, как в десятый раз облизывала и утирала губы, обеими ладонями проверяя, не осталась ли, не дай бог, на лице, хоть одна сладкая «песчинка», как раскрылся её обман и что за этим последовало – не помнит.
Это о том, что касается сладостей. Что до тетрадей, то их вообще не было в те годы – все письменные уроки делали… да на газетах же и делали их (если, конечно, были газеты). А писали всё равно каллиграфическим почерком: нажим… волосяная… нажим… волосяная… Поэтому совершенно непонятно: какой там был «ключик»? – тогда… Да ещё и «к каждому».
И вот теперь Катя училась писать в чистейшей тетради в косую линеечку, любовалась на первоначальную осень – ту, что стояла наяву, за окном, – тёплую, тихую, всю в трепетных золотых косицах по кроткому, но всё равно праздничному лазоревому небу, от которого неизменно захватывало дух!.. и ту, что открывалась ей в стихах – благодатную, умиротворённую, немного грустную… связывая их в себе воедино волосяными линиями – нитями тонкими до прозрачности, почти незримости, паутинно-хрустальной хрупкости… но в то же время и самыми прочными на свете – да потому, что без нажима – и уплетала гоголь-моголь, как говорится, за обе свои худенькие щёки.
Но – и так говорится тоже – «недолго музыка играла»: вскорости Катина мама заметила, что в холодильнике как-то уж очень быстро, просто даже подозрительно быстро! – стали заканчиваться яички. Просто пропадать стали. Только успевай покупать!
И пришлось Кате с бабушкой «расколоться» – признаться, что это Катя… занимается с бабушкой… «за гоголь-моголь».
Мама очень рассердилась тогда. И теперь уже не Катиному папе когда-то в далёком детстве, а Кате с бабушкой здесь и сейчас влетело по первое число. И первокласснице, и первой и самой лучшей учительнице – обеим. Мама сказала, что бабушка Катю «совсем распустила» и что теперь Катя из неё, то есть из бабушки, «верёвки вьёт».
Читать дальше