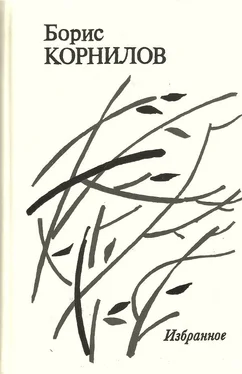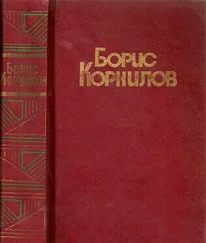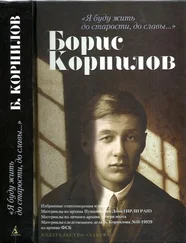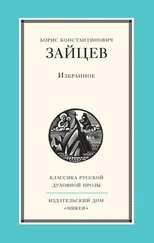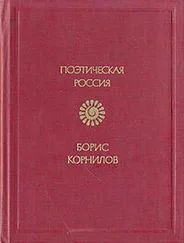А все-таки роман я сочиню.
Сейчас немного похваляться рано,
прости меня, читатель, — потому
я только схему, тезисы романа
вниманью предлагаю твоему.
II
Как мне диктует романистов школа,
начнем с того…
Короче говоря,
начнем роман с рожденья комсомола —
с семнадцатого года,
с октября.
Вот было дело. Господи помилуй! —
гудела пуля серая осой,
и Керенский (любимец… душка… милый…)
скорее покатился колбасой.
Тогда на фронте, прекращая бойню
братанием и злобой на корню,
встал фронтовик и заложил обойму,
злопамятную поднял пятерню.
Готовый на погибельную муку,
прошедший через бурю и огонь,
он протянул ошпаренную руку,
и, как обойма, звякнула ладонь.
Тогда орлом сидевшая империя
последние свои теряла перья,
и — злы, неповторимы, велики —
путиловские встали подмастерья,
кронштадские восстали моряки.
Как бомбовозы, песни пролетали,
легла на землю осень животом…
(Все это — предисловие, детали
и подступы к роману. А потом…)
Уже тогда, метаясь разъяренно
у заводской ободранной стены,
ребята с Петергофского района
и с Выборгской ребята стороны
пошли вперед,
что не было нимало
смешною в революцию игрой,
хоть многого еще не понимала
и зарывалась молодость порой.
Ей все бы громыхала канонада,
она житье меняла на часы,
и Ленин останавливал где надо
и улыбался в рыжие усы.
(Не данным свыше, не защитой сирым,
не сладким велеречьем, а в связи
с любовью нашей, с ненавистью, с миром
Ты Ленина, поэт, изобрази.
Пускай от горести напухли веки,
писатель, помни — хоть сие старо:
ты пишешь о великом человеке —
ты в кровь свою обмакивай перо.)
Он знал тогда — товарищи, поверьте, —
что эти заводские пацаны
не ради легкой от шрапнели смерти,
а ради новой жизни рождены.
Мы положенье поняли такое,
когда, сползая склонами зимы,
мы выиграли битвы у Джанкоя…
и у Самары победили мы.
Из боя в битву сызнова и снова
ходили за единое одно —
Антонова мы били у Тамбова,
из Украины вымели Махно.
Они запомнят — эти интервенты
навеки незапамятных веков —
тяжелых наших пулеметов ленты
и ленточки балтийских моряков.
Когда блокадой зажимала в кольца
республику озлобленная рать,
мы полагали — есть у комсомольца
умение и жить и умирать.
Все в обороте — и любовь и злоба,
Война.
Империя идет ко дну…
(Когда я сяду за роман, особо
я опишу гражданскую войну.
Воспоминаньям дань большую отдав,
распределю материалы так:
на описанье битв и переходов,
глубоких рейдов, лобовых атак —
две-три главы, чтоб вышло пошикарней,
потом я в песню приведу свою
сотрудников политотделов армий,
что пали за республику в бою, —
Якушкина, Кручинина Семена,
Ненилова — мне все они близки, —
и преклоню багровые знамена
своей любви, печали и тоски.)
Несла войны развернутая лава,
уверенностью била от Москвы —
была Россия некогда двуглава,
а в сущности, совсем без головы.
Огромные орлы стоят косые,
геральдика — нельзя же без орлов!
За то, что ты без головы, Россия,
мы положили множество голов.
Но пулей срезан адмиральский ворон,
пообломали желтые клыки,
когда, патроны заложив затвором,
шагнули в битву наши старики.
Не износили английских мундиров,
не истрепали английских подошв.
Врагу заранее могилы вырыв,
за стариками вышла молодежь.
Офицерье отброшено, как ветошь,
последние, победные бои…
Советская республика, а это ж
вам не Россия, милые мои…
III
(Итак, в боях у Перекопа, Томска,
на станциях Самара, Луга, Дно
в романе нашем первое знакомство
с героями у нас заведено.
Они различны. Этот — забияка,
а этот — лирик… Этого порой
приходится расценивать двояко:
не то счастливый, а не то герой.
И я, писатель, выступив на сцену,
большую ношу взявший по плечу,
переживаний, настроений смену
в героях подмечаю, хлопочу,
рифмую, делу преданный без лести,
стараюсь, умничаю за двоих,
своих героев сталкиваю вместе,
потом опять разъединяю их —
как говорили раньше, тяжело
иметь талант, бумагу и стило.
Но это все в дальнейшем, слава богу,
я не хочу сейчас смущать умы —
сижу себе, кропаю понемногу,
героев просто называю «мы».)
IV
Когда назад мы обернулись разом,
отчаянны, настойчивы и злы,
мы увидали…
Не окинуть глазом
развалин, пепла, щебня и золы.
Разбитые, разломанные тракты —
над ними только месяц молодой, —
молчали фабрики,
зияли шахты,
подземною наполнены водой.
И ржавчина сидела на стропилах,
и крыши на сторону все снесло,
и высыпало снеговых опилок
на улицу несметное число.
По грязи гибель подползала ближе —
ты чувствовал, ехидную, ее, —
в картофельной, слезоточивой жиже
голодное копалось воронье.
Читать дальше