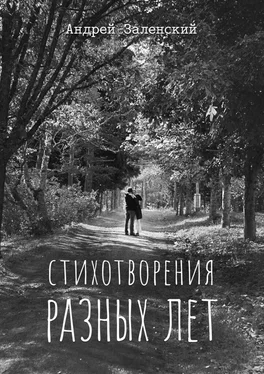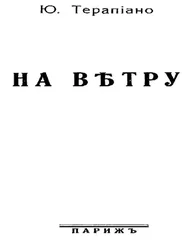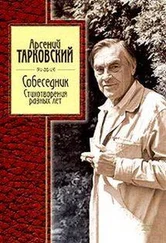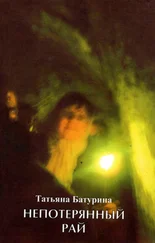Когда однажды утром
ты увидишь,
что голубее небо
чем на самом деле есть
– проснись.
Ты слышишь,
лики плачут,
ты видишь,
что ржавеет жесть
распятий,
что спятил мир,
забыв
про вонь,
про лесть,
про смерть.
Встань
– чувствуешь,
ты чувствуешь
– под нами твердь.
2
И вот опять ты посетил сей город,
где каждый рак в Расстрельевской норе,
где лебедь без крыла,
где щука тянет в ropу…
– Мой дом и ныне там,
он для тебя открыт,
как горлышко для пробки,
коль пробка от вина
(а в этом я уверен)
– Попьем его сполна!
«но я ведь так люблю Россию»
Прости, Старик,
опять не по дороге,
прости, старик,
я так к тебе привык,
прости, старик
– но я люблю пироги,
мне непонятен ваш язык,
мне непонятны ваши нравы,
так странно пахнут ваши травы,
так страшен ваш оркестр бравый,
так неприятны те, кто правы
– Прости, старик,
пойми меня, Старик.
4
Оставь себе себя частицу,
внутрь повернув – пройди насквозь,
нам стоит иногда поститься,
мотая сталь удил на ось,
чтобы однажды раскрутиться
да так, как Вам не довелось.
«Мои стихи в прощальный вечер…»
Мои стихи в прощальный вечер
забыты будут как назло
и ветер, беспощадный ветер,
их вербой выпушит в окно,
чернила располощет дождик,
в снег кляксы выбелит зима
и перечеркнутые дрожью
на строчках скрючатся слова.
В ресторане девственные скатерти,
покатайте хлебом – скатите
из хлеба смех.
Завернуть бы в эти скатерти всех,
чтобы в саванах по площади – в марш,
чтобы ноженьки как лошади мах,
по проспектам чтоб галопом – в строй,
мостовые чтоб полопались как в зной…
Что-то в ресторане тихо,
блажь
– ты отрежь кусочек хлеба,
маслом смажь.
«Колокол Свободы»
сломали уроды,
сломали,
расплавили на металл.
«Колокол Свободы»
в крапив огороды
забросили,
спрятали,
а я искал.
«Колокол Свободы»
ищут народы,
а колокол свободы
звенеть устал.
Белокурая бестия,
бражные сны,
неужели все бестолку,
бестолку, слы…
Неужели все по ветру,
по ветру, по…
Мнишь березовость поутра,
бирюзовый запой.
Мне – хмельные закосины
порыжевших домов,
вскрик испуганной Осени
– Снись, я сплю, я готов.
Грешим как можем в этом мире.
Кровать преуподобив лире
– пружиной музыку творим,
с утра похмелием горим,
и с думой сладкой о кефире
виолончелью говорим.
Растаял снег, что был тобой целован,
он растворился, высох, он разочарован,
что больше он не может повториться
в губах как форме.
Только лишь присниться
ему осталось,
и я к нему испытываю жалость
такую как к себе
– Леплю веселье, в ком толкаясь,
и не жалею, и не каюсь.
«Стихи надоедливы словно птицы…»
Стихи надоедливы словно птицы,
стряхивающие шапки снегов,
и вспыхивают, вспыхивают зарницы
еще не рожденных страниц стихов
– в вечер, в слякотный город,
в подворотни, пахнущие темнотой,
как женские руки струятся за ворот
дождь и стихи, дождевой теснотой.
Чудо, если не чудо,
то что же,
вверх помогает секундам бежать?
– Вниз мы скользим,
задержаться не можем,
стоит лишь руки разжать,
выронить серп,
помогающий ложе
в поросли времени жать.
«Я могу сосчитать до тысячи…»
Я могу сосчитать до тысячи,
а попросите – до десяти,
я могу вероятность вычислить
вероятно точно, почти.
Знаю десять фамилий Великих,
десять тысяч фамилий безликих,
знаю восемь своих врагов,
знаю тысячу дураков.
Знаю восемь в квадрате и в кубе,
знаю важность событий на Кубе,
знаю крошку терцин и сонетов,
знаю двадцать на П поэтов…
А сейчас вот открыл книжку
и наткнулся на эту мыслишку:
«Лис знает много,
Еж – одно, но важное» 1 1 Архилох, VII век до н. э.
Горит планета Марс и смерти нет.
И листьев нет зеленых.
И кленов нет в аллее кленов.
И нет дубов в аллее из дубов.
И из сосновых досок нет гробов.
Читать дальше