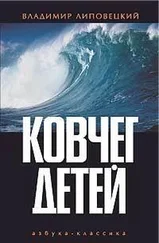И было это осенью,
в лучшее время года для такого.
– Ицхак, – сказал Авраам, —
укрепи эти сучья на ослах
и захвати еду в дорогу.
Пошел дождь, из первых, редкий недолгий.
– Набрось капюшон, Ицик, – сказал он, —
и иди к машине.
Был первый день
и были дороги тесны от автомобилей.
Они ехали в потоке и останавливались
на каждом светофоре.
Через несколько дней пути Авраам сказал:
– Вот это место. Привяжи ослов и развьючь их.
Захвати дрова с собой.
Он поправил армейскую сумку на плече сына,
помог ему надеть винтовку,
которая стянула плечи и грудь.
– Удачи, сынок. Звони.
И было, не мог он оторвать взгляда
от сильной спины сына,
от легких его шагов к воротам базы.
– Сара, не умирай, Сарале.
Ангел успеет.
Не наполнишь собою дом, не мелькнешь в зеркале.
У.-Ц. Гринберг
встречал эти лица и я, и больше не встречу никого из них.
на светофоре не попросит проехать прямо из правой полосы,
на пикнике не сварит кофе на моем остывающем мангале,
ни в парках, ни в магазинах, ни в банке, ни на пляже…
везде там, где мы будем спокойно беспокоиться за детей,
допоздна работать, планировать отдых, торговаться на рынке,
спешить и опаздывать, выздоравливать и отчаиваться…
под надежным куполом, в тени неодолимой скалы
из резервистов и срочников,
которые и впредь будут накрывать нас крылом своего мужества.
– Эй, дедок, ты где? Это шоссе, это тебе не забор сторожить, —
с ухмылкой отмахивается он, подрезав меня на своем мотоцикле.
Проснуться и,
не открывая глаз,
знать, что еще темно,
раз одинокий соловей
поет тебе в окно.
Он далеко, он у моста,
его блаженный глас
под небеса пролит.
А он с соседнего куста
творит и мост и небеса,
и горизонт творит.
И лучше глаз не открывать,
себе свободу даровать,
услышать эха вертикаль.
И снова необъятна даль
и первозданна нагота
шоссе, кустов, моста.
Духовитый настой венских стульев и пыльных гардин,
Он тебя заведет в лабиринт полустертых отметин,
Запустеньем наполнен наследства грибной габардин
непошитых пальто, не распетых в два голоса сплетен.
Поманит заоконная даль конопатою бойкой жарой,
Дразнит плеск у моста и песок на открытой странице.
Жми по центру, Санёк, захлебнись беззаботной игрой.
Твой доверчивый август в зените все длится, и длится.
«Со дна бокала пузырьки…»
Со дна бокала пузырьки
стремятся вверх по росту
или, точнее, по величине.
Вот крупные, зажав свои мирки,
всплывают на поверхность и с погоста
ее оказываются вовне.
А мелкие несут свой хмель в виски,
сливаются под черепной коростой
и образуют пустоту во мне.
Так двух пустот тиски
удерживают в равновесьи тело – остов,
их обе разделяющий вполне.
«Здесь, в старом шапито…»
Здесь, в старом шапито
в знакомом провинциальном захолустье
три дня скрываемся семьею
у циркачей заезжих.
В теплой шали жена
испугана, забита.
Сын беззаботен, как обычно.
А я насторожен и взвинчен,
при лошадях с охапкой сена.
За поворотом коридора
тяжелый занавес арены.
Проходит мимо клоун с рожей.
Ни подозренья, ни укора
не выражает он, похоже,
а все ж тревога нарастает.
Мама печет пироги,
Пахнет ванилью и сдобой.
И, примостившись удобней,
Прячу свои синяки.
Возле жестяной духовки
Мама гусиным крылом
Мажет листы и сноровка
Кажется мне колдовством.
Все отчужденно, как будто
Я ни при чем здесь ни капли.
Летом безмолвьем обуто,
Кухня – лишь сцена в спектакле.
В следущем действии топот
Детских сандалий по полу
И по скрипучим ступеням.
Соседский сдержанный шепот:
– Шуму… об эту-то пору, —
И лопухи по коленям.
И доносящийся окрик,
Чуть-чуть истошный, надсадный,
Рассчитан на непослушанье.
Порожек вымытый мокрый,
Ни суеты, ни досады,
Ни цепей обладанья.
Ветер восточный
В трубе водосточной
Наспех читает
Мне первоисточник.
Чтеньем такие
Мы с ним занятые,
Что замираем,
Когда запятые.
В новом отрывке
Костры и арыки,
Шепот молитвы,
Проклятия крики.
Что там? Пергамент
Хрустит уголками?
Иль бедуины
Кочуют песками?
Читать дальше