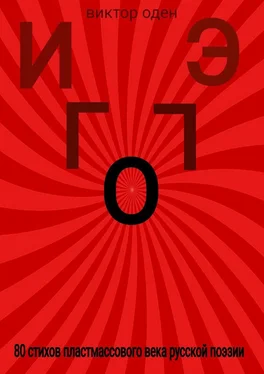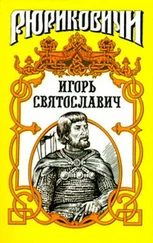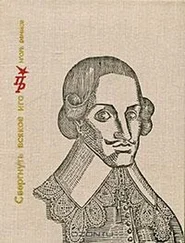На перекрёстке двух миров
под сенью светофора
стоял Козьма Кузьмич Петров.
А фауна и флора
в его лохматой голове
допытывались сути.
И шла младая по траве
в кусты Орнелла Мути.
За ней на цыпочках сатир
стремился по кореньям,
чтобы заняться позади
Орнеллы покореньем
её девических надежд
то нежно, то сурово,
отбросив фирменных одежд
прозрачные покровы.
А где-то наискось от них
зверёныш нюхал ветер.
Был жарок полдень, ветер тих.
Лукавый глаз заметил,
как над сатиром купидон
бесстыжий гол и розов.
Колчан тащил бездонный он
со стрелами вопросов.
Вонзалась мыслью точно в цель
безжалостная шалость,
и у сатира на лице
тот час же отражалась.
– — – — —
Козлиный замедлялся бег.
Шаг увязал в рапиде.
Застыл поборник сладких нег.
Стал в сумраке невидим
лесном девицы силуэт
с опушки, освещённой
хвостами тающих комет.
Пульс, раньше учащённый,
едва раскидывал теперь,
текущую по венам,
кровь.
– — – — —
Ночь. Опушка. Ветхий пень.
На пне – сатир согбенный.
Куда я шёл? Зачем я сел?
Упёрся в нотабене
забронзовевший le penseur
по замыслу Родена.
(Закономерен ли вопрос
абстрактного педанта:
Роденом взят Жан Бо всерьёз
на роль поэта Данте?)
Сидит поборник сладких нег.
Свернуло лето в осень.
Пушистый лёгкий белый снег
упал беззвучно оземь.
Потом – весна. Потом опять
оранжевое лето.
И так раз десять, или пять
столетий без просвета.
– — – — —
Неподалёку у реки
построили дорогу.
По ней на войны мужики
частенько ходят в ногу.
На речке водятся суда.
Летят аэропланы
по небесам туда-сюда.
В неразвитые страны
ползут подводы с кирпичом
и множеством безделиц.
На пне задумался о чём
таинственный сиделец?
Давно уже дремучий лес
проглочен пилорамой.
Из настоящего исчез
зверёныш вместе с мамой.
Он переделать не хотел
её, себя, и мира
пирог с начинкой в меру ел,
и улыбался мило.
Дамоклов меч над ним висел
судьбы в ветвях без ножен.
Налился соками. Созрел.
Упал. Но был возможен
диаметральный вариант
без эспадонопада,
что опроверг философ Кант —
звезда Калининграда.
– — – — —
Орнелла Мути приняла
российское гражданство.
Сиротство Парка как пряла
блаженство. Где рождаться,
и где, напротив, умирать,
как тать, не всё равно ли,
отбросив прядь, закрыв тетрадь?
В финале поневоле
кристаллизуется одно
«но» «из какого сора» :
Я пьян давно. Мне всё равно.
И кто есть я, который…
– — – — —
…который год нам нет житья.
Тошнит от этих басен.
Распространившись всюду, я
уже на всё согласен.
Я со двора гляжу в окно.
Я здесь и там в окне я.
Я вездесущ, бессмертен. Но
Оно всегда сильнее.
И глаз полно, как Гамаюн,
Оно и триедино.
– — – — —
«Какого чёрта я стою,
разинув рот, чудило!
Пятнадцать раз зажёгся свет
зелёный, жёлтый, красный.
А я смакую этот бред,
ни с чем несообразный.»
– на перекрёстке двух миров
под сенью светофора
подумал вдруг Козьма Петров.
А фауна и флора…
Свернув с Тверской, на Невский
предутренний пустой
влетают Достоевский
крылатый и Толстой
крылатый. Злится вьюга
февральская на них.
Летят они, друг друга
оглядывая. Тих
застывший мёртвый город.
В ушах лишь ветра свист.
И сыпет снег за ворот.
На них кавалерист
князь Пётр Долгорукий
и конь его глядят.
Друг друга взяв за руки,
два мифа вдаль летят.
Опять на бирже волатильность,
и Доу-Джонса рвёт Насдак.
А денег сроду не водилось.
Зато спокойный Наутилус
плывёт куда-то тихо так
в кувшине пробкового шлема,
блестя серебряной Луной.
И по колено все проблемы,
пока следит товарищ Немо
за веселящейся волной.
Шуршит ляфам вечерним боди.
За ней солдатские зрачки,
согласно мужеской природе
всегда и при любой погоде,
до края движутся почти.
Застыв в глубоком реверансе,
стоит почтительно она
перед столом, где в преферансе
три лба, Клико и Монморанси.
А сверху надпись «Чайхана».
По хрупкой скорлупе асфальта
идёт народ из синема,
храня в душе осколки фарта,
что не пройдут сквозь сито фильтра
привычки, позы и ума.
Но сердце бьётся с новой силой.
Поверхность трескается льда.
А между ивой и осиной
среди любви невыносимой
плывут туманы и года.
18. Нескромное обоняние эгофутуризма
Читать дальше