А. Блок
И все ушли…
Грозу сменила
безоблачность и тишина,
где чья-то пряталась вина
и чья-то пробуждалась сила.
О, сколько будет впереди
фальшивых слез, пустых упреков,
и детский мир, и мир жестокий,
где «покарай!» и где «прости!» —
в одном дыханье, в ипостаси
цепной борьбы добра и зла.
Все разошлись. Гроза ушла,
и с ней умолкло богогласье.
Настроют храмов, купола
взовьются к небу позолотой —
когда б оттуда вышел кто-то
явить хоть часть того тепла…
Увы, как время двинуть вспять
ни тщятся сильною рукою —
все разнодушие людское
не переплавить в благодать.
Когда бы брали от земли
лишь то, что позволяет совесть,
иначе б обернулась повесть…
Гроза ушла. И все ушли.
Через какую прорву дней
опять входить все в ту же реку:
он перестал быть человеком…
(Настолько ль богом быть трудней?)
Они не приняли его
с молитвой проходящим мимо —
когда не видят то, что зримо,
тогда и высшее мертво.
Холм лысый. Крест для всех. Закатом
стоит край неба недвижим…
Безумный, он хотел быть братом
всем, столь чужим себе самим…
Вся вера – несколько минут,
вся мука – череда столетий,
где те же церкви, войны, плети…
И сколько раз еще распнут!
Играть в подобье у икон
от сердца ль, страха кары грозной,
а все одно – толпиться розно
от давних этих похорон
до грани той, того добра
что так и не принять, как милость…
Гроза ушла. А кровь струилась
на фреске вновь из-под ребра…
Пишу, не ведая, с чего
такая вышла мешанина:
Голгофа, вечер, вопль единый…
Пускай и не было всего:
ни слез келейных на пятак,
ни запоздалой ласки женской —
мир так далек от совершенства,
безумен так, прекрасен так…
Дремлю – и за дремотой тайна,
И в тайне – ты почиешь, Русь.
А. Блок
Дорога снова вверх и вниз
то полем, то примолкшим лесом.
Холодный май совсем раскис,
и кто его назвал повесой —
он так же грустен, как тогда,
когда сошел сюда впервые,
где стих прозрачен, как слюда,
и избы серы, как Россия.
Лишь солнце, выглянув на миг,
из ветел вырвет желтый локон —
и в прятки… Редкий птичий крик,
но, вроде, ничего от Блока.
Природе не присуща лесть —
мы все надумываем сами…
– Вот это Блоково и есть, —
какой-то голос вдруг за нами. —
А дом сожгли и по дворам
порастащили, что осталось.
Тогда какая в людях жалость,
не то что дом – свалили храм!
Да что там…
Женщина ушла.
И мы одни. И одиноко.
И даль печальна и светла.
И, вроде, ничего от Блока:
ни указателей, ни стен,
куда бы глазу упереться.
Но отчего-то бьется сердце,
как птица, тянется на крен,
хотя и сгинуло давно
то время, разве ностальгия
нахлынет памятью…
Россия!
тебе иного не дано,
твой лик – леса, заглохший луг
и камень с тайною глубокой,
где, вроде, ничего от Блока,
и всюду он. Замкнулся круг.
Хоть майское солнце дороже
разгула июньских дождей,
хоть ждать не дождаться, а все же,
а все же – все мысли о ней.
О ней, возмущенной, да тихой,
ввалившейся в прежний застой,
принявшей и счастье, и лихо
в бескрайний простор полевой.
О ней, в полусне и задоре
притихшей от грозных рацей
со скрытой улыбкой во взоре
на добром, скуластом лице.
Голоса из ниоткуда
(Строителям нынешней дороги Сургут – Уренгой)
А по бокам-то все косточки русские…
Н.А.Некрасов
Дорога шла до Уренгоя,
началом смерти был Сургут,
где знали мы, что рельсы скроют
вмененный лагерный уют.
Под лозунгом «Даешь дорогу!»
с лопатой, тачкою простой
мотали сроки понемногу,
вся слава – пайкою ржаной,
с которой вырваться едва ли
из этой адовой тайги.
Нет, мы в героях не гуляли,
мы были родине враги,
хотя всем телом ей служили
до безымянной той версты,
где просто в насыпь нас зарыли,
не тратясь даже на кресты…
Вам, нынешним, трубя победу
в подкупленных ведомостях,
припомнить бы – вы шли по следу,
на наших строили костях.
Читать дальше


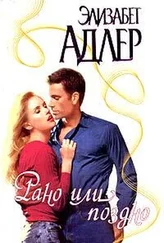






![Лазарь Лагин - Детская библиотека. Том 46 [Лазарь Иосифович Лагин]](/books/401001/lazar-lagin-detskaya-biblioteka-tom-46-lazar-io-thumb.webp)


