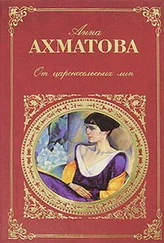Где б он ни был — хоть в бочке меда,
Хоть на небе седьмом — везде,
И подавно среди народа,
Был в отчаянье он. И где
Было помнить ему о крыльях
Милых ног и воздушных рук.
Он бежал от нее, как кролик,
И считал: это ловкий трюк.
Как античный певец на бронзе,
Раздираемый на куски,
Он пытался в стихах и в прозе
Вызнать имя своей тоски.
В ад отправленный, он не ведал,
Ни зачем, ни хотя б за что,
И в смущении проповедовал
Убедительное Ничто.
Неожиданно и стремительно
Он вернулся к своей судьбе —
Для кого-то обворожительной,
Для него — недурной собой.
Но в объятьях, в тепле, от таянья
Был далек он, как никогда,
И лелеял свое отчаянье,
Как сорвавшаяся звезда.
АЛЛЕН ТЕЙТ
© Перевод П. Грушко
Место действия — округ Монтгомери, Кентукки, июль 1911 года
Кентуккских вод прохлада ключевая!
С четверкой сорванцов к речной волне
Спешит малыш, от зноя изнывая,
Здесь лозы льнут к деревьям в тишине
И у щеки лист лопуха ворсится
Ладошкой Навсикаи. Вновь во мне
Скупой слезинкой детство золотится,
И, высохшие, ожили ручьи
Любви и страха. Вновь былое длится,
И дрозд, качнувший ветку в забытьи,
Насторожил под деревом тюльпанным
Пружину мокасиновой змеи…
Тропа над плесом поросла бурьяном,
С небес течет расплавленный свинец,
И мы шагаем в полусне дурманном —
Билл, Чарли, «ниггер» Лейн (его отец
Был врач), тиликавший на флейте Гарри
И Аллен — я — прославленный пловец.
Сумах поник листвой, как на пожаре,
Заждавшись подаянья облаков,
И мы бредем в полуденном угаре
К воде, чей и в ночи не молкнет зов.
Лейн закричал: «Передохнем немного!»
И тут — глухою дробью — стук подков…
Одиннадцать гнались по краю лога
За тем, кто изнемог и был темней
Щербатых плит у старого порога.
И как спешат подобием теней
Лунатики по скошенным карнизам,
Когда инстинкт всех навыков верней,
Мы очутились у реки и низом
Брели, от страха проглотив язык,
По узкой тропке над потоком сизым —
Нам слух глазами стал. И вновь возник
Отряд, но с ним не появился снова
Тот, кто бежал. И я ослеп на миг,
Увидев это воинство Христово —
Позором изнуренные тела…
Потом тропа вдоль берега крутого
Пошла ровней и к бухте привела.
Мы на песок присели сиротливо,
Вода рябой прохладою влекла.
Но, словно водоросли в час прилива,
Зашевелились волосы, и весь
Поджался я, услышав, как с обрыва
Слова скатились — горестная весть,
Как будто горсточка земли упала
В могилу: «Это мертвый ниггер здесь».
Шериф, на явор опершись устало,
Травинку отломил не торопясь
И, ковырнув в зубах, отметил вяло:
«Мы опоздали», — нехотя склонясь
Над Мертвецом остывшим, чью сорочку
Кровь запятнала и сухая грязь.
Слепень куснул удавленного в мочку.
Шериф легонько голову носком
Подвинул, поместив ее на кочку.
Друзья бежали под уклон гуськом,
И я был рад их бегству. Вечерело.
Подъехал всадник. Спешившись, рывком
За ноги потянул большое тело.
Набросив петлю на ступни, шериф
К луке веревку привязал умело,
Труп изогнулся, будто был он жив,
Напрягся — словно леска со стремниной
Сражалась, уступая… уступив…
Шериф бранился, но тому причиной
Был не мертвец, а пыль, ее поток
Над кавалькадой, мчавшей по пустынной
Дороге в городок. Я здесь не мог
Остаться дотемна! По теплой пыли,
Босой, я припустил не чуя ног,
Как жаба, прыгал через рвы, в бессилье
Хватая воздух ртом, а сам глядел,
Как всадники к суду свой груз тащили —
Труп, над которым, точно саван, рдел
Закат, а пыль, клубясь, преображала
В толпу три смутных тела. Я летел,
И с каждым вздохом в грудь вонзались жала.
Потом один стоял, а голова
Безликая на площади лежала…
Столь личная, когда была жива, —
Отныне всем она принадлежала.
Но плакала над нею лишь трава.
О стекла осень бьется,
И мне открылось вдруг,
Что я на дне колодца,
И юность канула во мрак,
И на губах паук.
Читать дальше